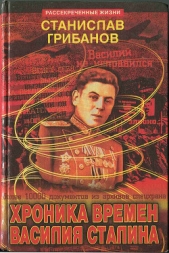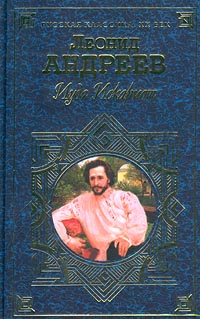Театральные взгляды Василия Розанова

Театральные взгляды Василия Розанова читать книгу онлайн
Книга является первым исследованием философских взглядов В. В. Розанова (1856–1919) на театральное искусство рубежа XIX–XX вв., до сих пор не ставших достоянием культурной общественности. Её персонажи — М. Н. Ермолова, К. С. Станиславский, Ф. И. Шаляпин, Л. С. Бакст, А. Дункан и другие. Приведены интересные подробности из сценической практики Малого, Александрийского и Суворинского театров, Театра В. Ф. Комиссаржевской. Особое место уделено классической драматургии (Гоголь, Л. Н. Толстой, Грибоедов, Чехов, Эсхил, Софокл, Метерлинк, Ибсен, Гауптман), а также ряду драматургов эпохи модерна и революций.
Весомую часть монографии составили не републикованные в постсоветское время статьи Розанова о театре, некоторые архивные материалы и полемика вокруг статьи «Актер». Материалы снабжены научными комментариями.
Издание адресовано читателям, интересующимся творческим наследием Василия Розанова, вопросами театра, религии, истории предреволюционной России, массовой и элитарной культуры Серебряного века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чтобы завершить разговор о розановской концепции развития отечественного театра, нужно кратко рассказать о том, что же именно, по мнению Розанова, было пропущено или не до конца прочувствовано культурой XIX века; каким было, собственно говоря, это «пушкинское направление», которое не получило надлежащего развития.
И здесь снова обнаруживается стилистическая проблема. Гоголь открыл новые пути в литературе, потому что именно его блестящее слово на тот момент оказалось новаторским, а Пушкин и Лермонтов скорее закрыли, закольцевали ход литературы от Ломоносова. Им суждено было не обогащать, а синтезировать ценности. Там где Гоголь смеется, Пушкин плачет: «во всех его томах ни одной страницы презрения к человеку» {462}, «всемирное внимание, всемирная вдумчивость» {463} — сколько в этакой пушкинской добродетели силы для противоборства гоголевской концепции человека, и силы отчего-то нереализованной. Пушкин следует позитивным идеалам: подлинному патриотизму, историзму, государственному мышлению, зрелость которых была не понята даже современниками. Свойственна была ему и дисциплина мысли — Пушкин «сбрасывал» Гоголю сюжеты «низких» произведений («Ревизор» и «Мертвые души»), отказывая самому себе в праве на их разработку. В связи с розановским противопоставлением это обстоятельство становится очень существенным и для Гоголя весьма неприглядным.
Лермонтов для Розанова — поэт космический, он словно был при сотворении мира, все запомнил и перенес в свои тексты {464}, звучащие в начале позитивистского века как атавистические — голосами Египта и Вавилона. «У Лермонтова есть чувство собственности к природе <…> Казалось бы, еще немного мощи — и он будет управлять природой» {465}.
Но Розанов — мистик, и его литературно-историческая концепция не смогла обойтись без случайного стечения обстоятельств. «Вечно печальной дуэлью» называет Розанов дуэль Лермонтова, «вечно печальной дуэлью» он мог бы назвать и убийство Пушкина. Не один раз Розанов будет сожалеть об этих трагических обстоятельствах русской литературной жизни, и не раз Розанов помыслит о судьбе литературы в сослагательном наклонении: «проживи Пушкин дольше, в нашей литературе, вероятно, вовсе не было бы спора между западниками и славянофилами» {466}, «[если бы Лермонтов остался жив. — П.Р.] Россия получила бы такое величие благородных форм духа, около которых Гоголю со своим „Чичиковым“ оставалось бы только спрятаться в крысиную нору, где было его надлежащее место. Бок о бок с Лерм[онтовым] Гоголь не смел бы творить <…>Добролюбовых и Чернышевских после Лермонтова выволокли бы за волосы и выбросили бы за забор, как очевидную гадость и бессмыслицу» {467}. Задумаемся и мы: «Выхожу один я на дорогу» — последнее стихотворение Лермонтова; что было бы написано назавтра после несвершившейся дуэли?! «Час смерти Лермонтова — сиротство России» {468}.
Практический комментарий к теме противопоставления «пушкинского» и «гоголевского» литературного пути дает педагог, приятель и кумир Розанова в 1880–90-х годах Сергей Рачинский. Его опыт в обучении крестьянских детей в экспериментальной церковной школе в селе Татево указывал на то, что дети охотно читают Пушкина и допушкинскую литературу, включая ложноклассическую, и совершенно невосприимчивы к Гоголю и сатирическому жанру: «им легче проникнуть с Гомером в греческий Олимп, чем с Гоголем в быт петербургский» {469}. Наблюдение это весьма тенденциозно, но оно, по крайней мере, дает представление о реальных народных предпочтениях того времени: Пушкин выражает «народную душу», Гоголь — нет.
Во второй половине XIX века «гоголевскому направлению» противостояли Толстой и Достоевский. Конечно, великие классики-романисты дают совершенно иное представление о мире и человеке, отличное от сатирически-бытового жанра: «Гений его [Толстого. — П.Р.] по устремлению, по задаче животворить совершенно противоположен гению Гоголя, который мертвил даже и налично-живое, окружающих современников, все» {470}, «среди всех теперь живущих или высказавшихся людей он видит наибольшее число предметов и с наибольшего числа точек зрения» {471}, «полная фуга человеческого существования» {472}. Не моралью, а великим и свободным нравственным словом потрясла русская литература западного читателя; не сатира и презрение к человеку, а воспетое Пушкиным милосердие, «милость к павшим» оказывается непреходящей ценностью отечественной культуры: «западным людям русская литература открыла эру нового нравственного миропорядка» {473}.
Розанов фиксирует, конечно, курьезную ситуацию: все лучшее «на экспорт», все худшее потребляем сами.
Русские Алкивиады
Антигоголевские выступления Розанова разворачивались на интересном литературном фоне. Вместе с переоценкой творчества Толстого и Достоевского, произведенной символистами, появлялись и новые исследования о Гоголе, в которых представление о писателе за весь XIX век менялось на противоположное. Если Белинский, Чернышевский и другие критики «демократического» направления выводили из гоголевских сочинений всю натуральную школу российской словесности, тем самым признавая в нем дар реалистического бытописательства, то на переломе веков в Гоголе распознали фантаста, символиста и религиозного писателя. В фигуре подлинного ревизора стали видеть уже не бюрократическую машину, а божий или дьяволов суд; Чичиков оказывался не талантливым прохиндеем, а самим сатаной, скупающим мертвые и живые души и управляющим «Россией-тройкой» из окна собственной брички.
По сути, произошла не просто переоценка гоголевского творчества, но реформа в «отечествоведении» (вспомним, что советское литературоведение вернуло Гоголю «почетное звание» реалиста и сатирика, а значит, переоценка истории состоялась в очередной раз). Удивительное явление: люди разных партий не могут сойтись в оценке очевидного, наглядного творчества Гоголя; и более того — существует прямая, неопосредованная связь между литературой и жизнью, словно бы Гоголь был не беллетристом, а летописцем. Словно во всей России не оказалось иных документальных свидетельств об эпохе, и судить о XIX веке можно лишь по литературному произведению, как о ранней античности — по эпосам Гомера. Представление об истории в таком случае зависит от результатов герменевтических опытов, каждый раз разных: как дешифруют текст, как его интерпретируют по последнему слову техники, как решат: фантастичен или реалистичен русский мир, описанный Гоголем.
Нас это явление интересует с другой точки зрения. В самой возможности переоценки общего представления о собственной стране уже содержится архаичный театральный элемент: сценическая условность, при которой персонажи не могут узнать переодетых партнеров, знакома нам по древнеримским комедиям, пьесам Мольера, Мариво, Шекспира и т. д. При этом мимикрия, травестия признается условной только зрителями, которые, конечно, легко узнают персонажей, всего лишь сменивших костюм или надевших маску, но «не выдают» их тем, кто на сцене — или, как написал в «Мимолетном» о Гоголе Розанов: «России вовсе нет, она только показалась» {474}. Переодевание как способ быть неузнанным — это прием «театра в театре»; по мнению французского театроведа Патриса Пави {475}, в таких случаях речь всегда ведется о взаимоотношении реальности и видимости, а в более поздних комедиях (Пиранделло) — вообще о подлинности или мнимости личности или сущности переодевшегося. Тут театроведческие разработки помогают глубже взглянуть на розановскую мистику.