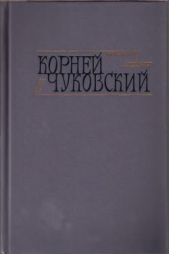Критические рассказы
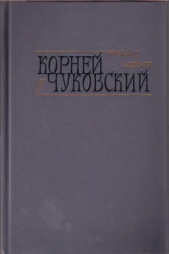
Критические рассказы читать книгу онлайн
Корней Чуковский работал во многих жанрах. Начинал он в 1901 году как критик. В разные годы выступал в печати как историк литературы, литературовед, мемуарист, переводчик, теоретик художественного перевода, лингвист, детский писатель, исследователь детской психологии. В предлагаемый двухтомник вошли его сказки для детей, статьи и книги о детях (том 1) и его критические работы (том 2).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Именно поэтому Короленко всегда изображает свой вчерашний день и ни разу не изобразил какого-нибудь своего «сегодня», — иначе ему пришлось бы отбросить ту волшебную призму, сквозь которую теперь столь обаятельным представляется ему мир. Ибо обаятельность мора ему нужнее всего. И никогда, в художественных своих творениях, не высказывая того, что он чувствует в эту минуту, он подробно повествует о тех чувствах, которые были у него двадцать, тридцать и сорок лет назад.
Как Леониду Андрееву, например, всегда нужно писать только о том, что он переживает сейчас, и совершенно не интересно писать о своем прошедшем, так Короленко всегда влечется исключительно к своему прошедшему и с необычайной силой отталкивается от настоящего.
Не только события, но и душевные свои переживания Короленко изображает с отдаленнейших точек времени, что значительно помогает ему украшать, орнаментировать жизнь.
И что еще помогает ему — это стилизация его вещей. Стилизации не знал никто из писателей его поколения. Но у него «Сказание о Флоре» звучит, как латинская хроника. У него диалектика «Теней» выдержана в стиле платоновских диалогов. «Лес шумит» и «Иом-Кипур» — написаны в украинском стиле. И каждую свою легенду он любит писать в особенном специальном тоне, очень дорожа ее общим колоритом.
И под этим прикрытием стиля нам становится в мире еще уютнее. Стилизованные страдания ведь так далеки от настоящих, и стилизованное отчаяние так отличается от нестилизованного…
Но, конечно, грандиозная эта задача: вытравить из мира трагедию — никогда бы не далась Короленко, если бы у него не было громадного гипнотического таланта. По смерти Чехова, у Короленки в русском искусстве нет соперников, и главная черта его удивительного дарования — это гипноз. Короленко — художник-гипнотизер, или что то же: лирический поэт. И в лучших своих вещах он с первых же строк умеет навеять на читателя такую атмосферу непобедимого благодушия, бесхитростной мечтательности и смиренного, бессознательного юмора, что потом, что бы ни попало в эту атмосферу, все начинает нести на себе отблеск ее очарования.
Попадает ли туда перевозчик Тюлин, пьяный, ленивый, вороватый и пришибленный — и тотчас же, словно изнутри, весь он начинает светиться каким-то особенным светом, и, что бы он ни стал делать, мы, гипнотизированные заранее, говорим в умилении: милый Тюлин!
Юрьевчане, хотевшие раскидать «на затмении» телескопы, — милые юрьевчане! Соловьихинцы, таскавшие прохожего к проруби, — милые соловьихинцы! И те, что посадили больного на цепь, — милые, трижды милые люди! И Андрей Иванович, дергавший за нос купца, — милый Андрей Иванович! И Лозинский, хватающий каждого прохожего за руку и холопски ее целующий — милый Лозинский! Здесь какое-то колдовство гипнотического таланта, и сколько бы ни творилось вокруг него зла, насилия, мерзости, все это он вовлечет в какую-то нежную мелодию, и, силою своего внушения, претворит в умилительную наивную красоту.
И начнет казаться, что весь мир — это наивный пейзаж, и наивный Андрей Иванович, и наивная речка Ветлуга, и наивные тучи на небе, и наивный столб на прибрежьи с наивною надписью:
ПОЖЕРТВУЙТЕ ПРОХОДЯЩИИ НА КОЛОКОЛО ГОСПОДНЕ
И исчезнет из мира ужас, и вот уже все уютно и ясно, как в комнате. Вы ездите, вслед за Короленкой, за тысячи, тысячи верст, но комнатная уютность мира ни на минуту не покидает вас. В каком-то рассказе Короленко воскликнул однажды:
«Каких чудес не может случиться вон в этой божьей хатке, что люди называют белым светом!»
И под гипнозом его таланта веришь на мгновенье: да, да, весь мир — это, именно, божья хатка, где все убрано, чисто, знакомо, и где так хорошо, когда «лес шумит», и «река играет», и песочинцы тонут, и сгорает сибирский поп, и римляне избивают шесть тысяч человек, и Успенский сидит на чемодане, и Чернышевский целует у дамы руку и говорит ей смеясь:
«А вы и не знали: я галантнейший кавалер!»
И под этим гипнозом великого таланта, как под лунным сиянием, вдруг на минуту поверишь, что жизнь — это скрытая легенда, сказание, святочный рассказ, и, посмотрите по сторонам, вглядитесь внимательнее в окружающих вас людей: как удивительно они вдруг переменились! Как красивы стали их движения, и нежны слова и поэтичны поступки. О, конечно, люди грабят по-прежнему и по-прежнему насильничают, — но все это где-то так далеко, [261] и так давно, и все это вовсе не страшно, и все это вовсе не главное, а самое главное и единственное, что на самом деле делают люди в этом волшебном короленковском царстве: они упоенно и неутомимо мечтают.
Мир Короленки не страшен: он полон мечтателей и фантазеров.
Мечтает ямщик Микеша, и в глазах у него Короленко подметил какую-то «грустную растерянность и темное бессознательное стремление, неизвестно куда».
Мечтают арестанты и мечтают часовые в очерке «В ночь под светлый праздник».
И в смутном бормотании спящего бродяги-Соколинца Короленке опять-таки слышатся «неопределенные вздохи о чем-то».
И «как грибы в тенистом месте» растут странные мечты двух малолетних мечтателей из рассказа «Парадокс».
Вы помните этот рассказ: дремота летнего дня, — и в «фантастическом уголке» на «фантастической» колеснице, «отдавшись полету фантазии», сидят два фантазера, «в атмосфере полу-сна, полу-сказки», ловят фантастической удочкой «волшебную рыбу», и один из фантазеров — сам Короленко, который с самого раннего детства каким только мечтам не предается! Проследите-ка эти мечты в «Истории моего современника».
А «синие и глубокие» глаза ямщика Силуяна из рассказа «В облачный день» светятся опять-таки «живо, умно и несколько мечтательно». И девушка, которую везет мечтательный Силуян, тоже мечтательница, и мечтает она о юноше с «мечтательными глазами».
Какое-то удивительное царство синих мечтательных глаз, — эта огромная Россия, которую гак хорошо знает Короленко от Якутска до Житомира.
У Матвея Лозинского—Дышла, который «без языка» отправляется в Америку, все такие же голубые задумчивые глаза, и в голове у него носятся все те же мечты, «смутные и неясные, глубокие и непонятные».
У Тюлина перевозчика те же «голубые глаза» и конечно те же мечтания. И у той девицы, Раисы Павловны, из «Ат-Давана», которая столько мечтала о Гуаке, Францыле Венцыяне и о маркграфинях бранденбургских, тоже непременно были голубые глаза, хоть писатель и не говорит нам об этом. И разве те мужики-песочинцы, которые так наивно утонули в родной речонке, могли не иметь голубых глаз? Или сгоревший сибирский поп, разве мог бы он без голубых глаз так наивно и приятно сгореть?
Голубоглазость обязательна для обитателей этих синеньких книжек, и мне сдается, что у героев Вл. Короленки даже самые души голубоглазые.
О чем мечтают эти голубоглазые души, для Короленки все равно. Лишь бы они мечтали. Среди мечтателей ему легко и не страшно, мечтатели лучше всего помогут ему перестроить вселенную в «божью хатку». И он не простит человеку одного: если тот человек не мечтатель.
Человека без голубых глаз, лишенного каких бы то ни было мечтаний, — вот кого он единственно чуждается и к кому, как художник, он чувствует отвращение.
На реке Ветлуге, которая «играет», все мечтательно и все голубоглазо, и повсюду все получает от Короленки его благословение. Не мечтательны там одни только начетчики-уреневцы, и потому Короленко ни за что не дает им приюта в своей «божьей хатке». — «Отчего, — спрашивает он, — так тяжело мне было там, на озере, среди книжных разговоров, среди „умственных“ мужиков и начетчиков, и так легко, так свободно на этой тихой реке, с этим стихийным, безалаберным, распущенным и вечно страждущим от похмельного недуга перевозчиком Тюлиным?»
В отрывке «На Волге» весь родной Короленке голубоглазый, мечтательный, синий мир, окутанный неясною дымкою, оскорблен, разрушен вторжением сурово-чистой, четкой, определительной фигурки купца-начетчика Дмитрия Парфеныча, который смеет в этот голубой, неясный туман мечтаний и грёз вносить четкие, определенные слова.