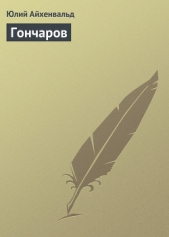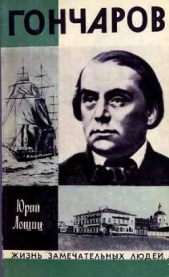Гончаров и его Обломов

Гончаров и его Обломов читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Во всей поэзии Гончарова нет мистического щекотания нервов, даже просто страшного ничего нет.
Вспомните «Вия», вспомните изящную психологию страха в тургеневском «Стучит». Ничего подобного у Гончарова. Тургенев пошел купаться и напугался на десятки лет. Гончаров свет объехал и потом ничего страшного не рассказал.
В поэзии Гончарова даже смерти как-то нет, точно в его благословенной Обломовке:
В последние пять лет из нескольких сот душ не умер никто, не то что насильственной, даже естественной смертью.
А если кто от старости или какой-нибудь застарелой болезни и почил вечным сном, то там долго после того не могли надивиться такому необыкновенному случаю.
Тургенев, Толстой посвятили смерти особые сочинения. У Толстого страх смерти повлиял на все мировоззрение. А вспомните рядом с этим, как умирает у Гончарова Обломов. Мы прочли о нем 600 страниц, мы не знаем человека в русской литературе так полно, так живо изображенного, а между тем его смерть действует на нас меньше, чем смерть дерева у Толстого или гибель локомотива в «La bete humaine». [35] Когда-то Белинский сказал про Гончарова и его отношения к героиням: «он до тех пор с ней только и возится, пока она ему нужна». [36] Так было и с Обломовым. Он умер, потому что кончился, потому что Гончаров исчерпал для нас всю его психологическую сущность, и он перестал быть нужным своему творцу.
Гончаров любил порядок, любил комфорт, все изящное, крепкое, красивое. Вспомните классическую характеристику англичан и их культуры во «Фрегате Паллада» или параллель между роскошью и комфортом. Комфорт был для Гончарова не только житейская, но художественная, творческая потребность: комфорт для него заключался в уравновешенности и красоте тех ближайших, присных впечатлений, которыми в значительной мере питалось его творчество.
Гончаров неизменный здравомысл и резонер. Сентиментализм ему чужд и смешон. Когда он писал свою первую повесть «Обыкновенную историю», адуевщина была для него уже пережитым явлением.
В Обломове он дал этому душевному худосочию следующую точно вычеканенную характеристику:
Пуще всего он бегал тех бледных, печальных дев, большею частью с черными глазами, в которых светятся «мучительные дни и неправедные ночи», дев, с неведомыми никому скорбями и радостями, у которых всегда есть что-то вверить, сказать, и когда надо сказать, они вздрагивают, заливаются внезапными слезами, потом вдруг обовьют шею друга руками, долго смотрят в глаза, потом на небо, говорят, что жизнь их обречена проклятью, иногда падают в обморок (II, 72).
Резонеров у Гончарова немало: Адуев-дядя, Аянов (в «Обрыве»), Штольц (в «Обломове»), бабушка (в «Обрыве»). Между резонерами есть только один вполне живой человек — это бабушка.
Резонерство Гончарова чисто русское, с юмором, с готовностью и над собой посмеяться, консервативное, но без всякой деревянности, напротив, сердечное, а главное, без тени самолюбования.
Такова бабушка — для нее все решается традицией, этим коллективным опытом веков, — она глубоко консервативна, но сердце ее полно любви к людям, и это мешает иногда последовательности в ее суждениях и поступках. У нее нет дерзкой самонадеянности резонеров деревянных, нет и их упорства: когда она признает, что Борюшка прав, она становится на его сторону, хотя он и порченый. Когда ее мудрость оказывается слаба перед непонятным для нее явлением Вериного падения, она попросту, по-человечески горюет, склонив седую голову перед новой и мудреной напастью.
II
В числе терминов, усвоенных критикой, чуть ли не самый ходячий — это слово тип. Школьная наука со своими грубыми приемами особенно излюбила этот термин. Тип скупца — Плюшкин, тип ленивца — Обломов, тип лгуна — Ноздрев. Ярлыки приклеиваются на тонкие художественные работы, и они сдаются на рынок. Там по ярлыкам узнает их каждый мальчишка… Вот фат, вот демоническая натура и т. п. рыночные характеристики. На этих ярлыках строятся и разыгрываются бесконечные вариации. То мысль критика, прицепившись к черте, грубо бросающейся в глаза поверхностному наблюдателю, начертывает характеристику человека, исходя из ярлыка, на нем выставленного. То актер шаржирует изображение, опять-таки исходя из основной типической черты. (Давно ли перестали быть карикатурами и «Ревизор» и «Горе от ума»?) То шаржирует тип романист-подражатель.
Художественный тип есть очень сложная вещь.
Прежде всего мы различаем в нем две стороны: 1) это комбинаторное представление из целого ряда однородных впечатлений: чем разнороднее те группы, тем богаче галерея типов; чем больше впечатлений слагается в один тип, тем сам он богаче; 2) в художественный тип входит душа поэта многочисленными своими функциями, — в тип врастают мысли, чувства, желания, стремления, идеалы поэта. Таким образом, элементы бессознательные, пассивные сплетаются с активными и дают тонкую сеть, представляющую для нас столько сходства с живыми тканями природы.
Мы как бы смотрим в соединенные трубки стереоскопа на два изображения на плоскости, и душа создает иллюзию трех измерений. В типе часто преобладает та или другая сторона. Вот, например, типы Островского, Потехина, [37] Глеба Успенского: какой-нибудь Тит Титыч Брусков, [38] в нем вы чувствуете преобладание пассивного, материального, эпического элемента над лирическим, сознательным. Возьмите рядом Печорина — это тип чисто лирический, его материальное содержание, бытовое, национальное легко исчерпывается.
В типах Гончарова эпическая и лирическая сторона, обе богаты, но первая преобладает.
Разбор художественных типов Гончарова особенно труден по двум причинам: 1) лиризм свой Гончаров по возможности сглаживает; 2) он скуп на изображение душевных состояний и описывает чаще всего то, что можно увидеть и услышать.
Как в лирике поэта мы ищем центра, преобладающего мотива, так в романическом творчестве среди массы типических изображений мы ищем типа центрального. У большей части крупных поэтов есть такие типы-ключи: они выясняют нам многое в мировоззрении автора, в них частично заключаются элементы других типов того же поэта. У Гоголя таким типом-ключом был Чичиков, у Достоевского — Раскольников и Иван Карамазов, у Толстого — Левин, у Тургенева — Рудин и Павел Кирсанов. Тут дело не в автобиографических элементах, конечно, а в интенсивности душевной работы, отразившейся в данном образе.
У Гончарова был один такой тип — Обломов.
Обломов служит нам ключом и к Райскому, и к бабушке, и к Mapфиньке, и к Захару.
В Обломове поэт открыл нам свою связь с родиной и со вчерашним днем, здесь и грезы будущего, и горечь самосознания, и радость бытия, и поэзия, и проза жизни; здесь душа Гончарова в ее личных, национальных и мировых элементах.
«Школа пушкинско-гоголевская продолжается доселе, и все мы беллетристы, — говорит Гончаров, — только разрабатываем завещанный ими материал» [39] (8, 217).
«От Гоголя и Пушкина еще недалеко уйдешь в литературе», [40] - говорит он в другом месте.
Но как своего учителя называет он одного Пушкина. «Гоголь, — говорит он, — на меня повлиял гораздо позже и меньше: я уже писал сам, когда Гоголь еще не закончил своего поприща» (218).
Нет повода теперь, по поводу Обломова, входить в рассмотрение степени и формы пушкинского влияния. Но нам вполне понятно, отчего Гончаров отобщал от себя Гоголя. Мы уже знаем, как чуждался Гончаров лиризма, а у Гоголя лиризм проник во все фибры его поэтического существа и мало-помалу отравил его творчество: оно оказалось слишком слабо, чтоб создать поэтические олицетворения для всех волновавших поэта чувств и мыслей. Лиризм, который придал столько неотразимого обаяния «Запискам сумасшедшего», «Шинели», уже нарушил художественность творчества во 2-й части «Мертвых душ», где Гоголь творил людей, так сказать, лирически, и, наконец, он же вызвал ослабевший и померкший ряд туманных, риторических и горделиво фарисейских сочинений, в виде его знаменитой «Переписки с друзьями».