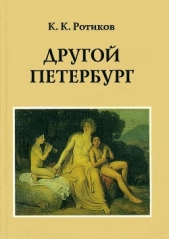Достоевский: призраки, фобии, химеры (заметки читателя).

Достоевский: призраки, фобии, химеры (заметки читателя). читать книгу онлайн
Книга посвящена малоизученным сторонам жизни Федора Михайловича Достоевского (1821–1881) и является попыткой автора ответить на вопрос: как повлияло на творчество, публицистику, образ мыслей и поведение писателя тяжелое хроническое заболевание головного мозга, которым он страдал с юности и до своих последних дней. Анализируются переписка, дневниковые и черновые записи, а также некоторые публицистические и художественные тексты Ф. М. Достоевского. На обложке воспроизведены рисунки Ф. М. Достоевского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Анна Григорьевна была отважной женщиной и включила в свои «Воспоминания» специальную главку «Ответ Страхову», в которой полностью привела текст этого письма. Я сверил его с упомянутым выше научным изданием и не нашел никаких отличий. Поэтому, я решил вместо пересказа ее «Ответа Страхову» своими словами включить его в свой рассказ полностью.
Вот и теперь, уже перед близким концом, приходится мне выступить в защиту светлой памяти моего незабвенного мужа против гнусной клеветы, взведенной на него человеком, которого муж мой, я и вся наша семья десятки лет считали своим искренним другом. Я говорю о письме Н. Н. Страхова к графу Л. Н. Толстому (от 28 ноября 1883 г.), появившемся в октябрьской книжке «Современного мира» за 1913 год.
В ноябре этого года, вернувшись после лета в Петроград и встречаясь с друзьями и знакомыми, я была несколько удивлена тем, что почти каждый из них спрашивал меня, читала ли я письмо Страхова к графу Толстому? На мой вопрос, где оно было напечатано, мне отвечали, что читали в какой-то газете, но в какой — не помнят. Я не придавала значения подобной забывчивости и не особенно заинтересовалась известием, так как что, кроме хорошего (думала я), мог написать Н. Н. Страхов о моем муже, который всегда выставлял его как выдающегося писателя, одобрял его деятельность, предлагал ему темы, идеи для работы? Только потом я догадалась, что никому из «забывчивых» моих друзей и знакомых не хотелось огорчить меня смертельно, как сделал это наш фальшивый друг своим письмом. Прочла я это злосчастное письмо только летом 1914 года, когда стала разбирать бесчисленные вырезки из газет и журналов, доставленные мне агентством для пополнения московского «Музея памяти Ф. М. Достоевского».
Привожу это письмо:
«Напишу Вам, бесценный Лев Николаевич, небольшое письмо, хотя тема у меня богатейшая. Но и нездоровится, и очень долго бы было вполне развить эту тему. Вы, верно, уже получили теперь Биографию Достоевского — прошу Вашего внимания и снисхождения — скажите, как Вы ее находите. И по этому-то случаю хочу исповедаться перед Вами. Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство. Пособите мне найти от него выход. Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей и самым счастливым. По случаю биографии я живо вспомнил все эти черты. В Швейцарии, при мне, он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: «Я ведь тоже человек!» Помню, как тогда же мне было поразительно, что это было сказано проповеднику гуманности и что тут отозвались понятия вольной Швейцарии о правах человека.
Такие сцены были с ним беспрестанно, потому что он не мог удержать своей злости. Я много раз молчал на его выходки, которые он делал совершенно по-бабьи, неожиданно и непрямо; но и мне случалось раза два сказать ему очень обидные вещи. Но, разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными людьми и всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что… в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, — это герой «Записок из подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах». Одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, а Достоевский здесь ее читал многим.
При такой натуре он был очень расположен к сладкой сантимен-тальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная музыка и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости.
Как мне тяжело, что я не могу отделаться от этих мыслей, что не умею найти точки примирения! Разве я злюсь? Завидую? Желаю ему зла? Нисколько: я только готов плакать, что это воспоминание, которое могло бы быть светлым — только давит меня!
Припоминаю Ваши слова, что люди, которые слишком хорошо нас знают, естественно, не любят нас. Но это бывает и иначе. Можно при близком знакомстве узнать в человеке черту, за которую ему потом будешь все прощать. Движение истинной доброты, искра настоящей сердечной теплоты, даже одна минута настоящего раскаяния — может все загладить; и если бы я вспомнил что-нибудь подобное у Достоевского, я бы простил его и радовался бы на него. Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная и литературная гуманность — боже, как это противно! Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливцем, героем и нежно любил одного себя. Так как я про себя знаю, что могу возбуждать сам отвращение, и научился понимать и прощать в других это чувство, то я думал, что найду выход и по отношению к Достоевскому. Но не нахожу и не нахожу!
Вот маленький комментарий к моей Биографии; я бы мог записать и рассказать и эту сторону в Достоевском, много случаев рисуются мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее; но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем!
…Я послал Вам еще два сочинения (дублеты), которые очень сам люблю и которыми, как я заметил, бывши у Вас, Вы интересуетесь. Pressense — прелестная книга, перворазрядной учености, a Joly, — конечно, лучший перевод М. Аврелия, восхищающий меня мастерством» [Прессансе — протестантский теолог].
Приведу ответ графа Л. Н. Толстого.
«Книгу Пресансе я тоже прочитал, но вся ученость пропадает от загвоздки. Бывают лошади-красавицы: рысак — цена 1000 рублей, и вдруг заминка — и лошади-красавице, и силачу цена — грош. Чем я больше живу, тем больше ценю людей без заминки. Вы говорите, что помирились с Тургеневым. А я очень полюбил. И забавно, — за то, что он был без заминки и свезет, а то рысак, да никуда на нем не уедешь, если еще не завезет в канаву. И Пресансе и Достоевский — оба с заминкой. И у одного вся ученость, у другого — ум и сердце пропали ни за что. Ведь Тургенев и переживет Достоевского — и не за художественность, а за то, что без заминки».
Приведу и ответное письмо Н. Н. Страхова от 12 декабря 1883 года.
«Если так, то напишите же, бесценный Лев Николаевич, о Тургеневе. Как я жажду прочесть что-нибудь с такою глубокою подкладкою, как Ваша! А то наши писания — какое-то баловство для себя или комедия, которую мы играем для других. В своих Воспоминаниях я все налегал на литературную сторону дела, хотел написать страничку из Истории Литературы, но не мог вполне победить своего равнодушия. Лично о Достоевском я старался только выставить его достоинства; но качеств, которых у него не было, я ему не приписывал. Мой рассказ о литературных делах, вероятно, мало Вас занял. Сказать ли, однако, прямо? И Ваше определение Достоевского хотя многое мне прояснило, все-таки мягко для него. Как может совершиться в человеке переворот, когда ничто не может проникнуть в его душу дальше известной черты? Говорю — ничто, в точном смысле этого слова; так мне представляется его душа. О, мы, несчастные и жалкие создания! И одно спасение — отречься от своей души».
Письмо Н. Н. Страхова возмутило меня до глубины души. Человек, десятки лет бывавший в нашей семье, испытавший со стороны моего мужа такое сердечное отношение, оказался лжецом, позволившим себе взвести на него такие гнусные клеветы! Было обидно за себя, за свою доверчивость, за то, что оба мы с мужем так обманулись в этом недостойном человеке.