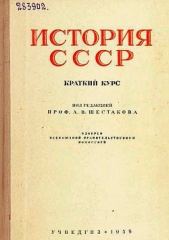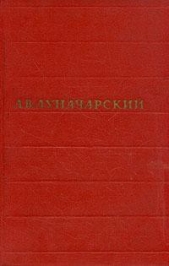Советская литература. Краткий курс

Советская литература. Краткий курс читать книгу онлайн
В новую книгу Дмитрия Быкова вошло более тридцати очерков о советских писателях (от Максима Горького и Исаака Бабеля до Беллы Ахмадулиной и Бориса Стругацкого) — «о борцах и конформистах, о наследниках русской культуры и тех, кто от этого наследия отказался».
В основу книги были положены материалы уроков для старшеклассников и лекций для студентов МГИМО — помимо интенсивной писательской и журналистской работы Д. Быков ведет и плодотворную педагогическую деятельность.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ведь когда-нибудь мироздание покосится, и Бог не сможет с ним сладить. Вот тогда и потребуются такие, как Слуцкий, — дисциплинированные, последовательные, милосердные, не надеющиеся на благодать. Тогда — на их плечах — все и выстоит. А пока в мире нормальный порядок, иерархический, с Богом-хозяином во главе, они не будут востребованы, вообще не будут нужны, будут мучимы. Будут повторять свое вечное «Слово никогда и слово нет», из самого лучшего, по-моему, и самого страшного его стихотворения «Капитан приехал за женой». Оно загадочно, не совсем понятно, и цитировать его здесь я не буду — оно большое. Но повторять про себя люблю. Так же, как повторять в ином состоянии слово «никогда» и слово «нет».
Когда-нибудь, когда мир слетит с катушек, именно на нелюбимчиках вроде Слуцкого все удержится. Тогда сам Бог скажет им спасибо. Но до этого они, как правило, не доживают. Рискну сказать, что весь съехавший с катушек русско-советский мир удержался на таких, как Слуцкий, — не вписывавшихся в нормальный советский социум; и повторяется эта модель из года в год, из рода в род. Русская поэзия не уцелела бы, если бы с сороковых по семидесятые в ней не работал этот рыжеусый плотный человек с хроническими мигренями. Сейчас это, кажется, ясно. Но сказать ему об этом уже нельзя.
Остается надеяться, что он и так знал.
ЖИВОЙ
Константин Воробьев (1919―1975)

В 2008 году на одном из сетевых форумов кипела бурная дискуссия о повести Константина Воробьева «Убиты под Москвой» (1963). Военные историки с потрясающим апломбом и пафосом ловили Воробьева, участника обороны Москвы в ноябре 1941 года, на вранье и некомпетентности. Сетевые историки вообще безапелляционные ребята. Им лучше очевидцев известно, как рота шла на фронт, чем была вооружена, как немцы выставляли боевое охранение и какой был звук у немецкого миномета. Они потрясают штатными расписаниями и ТТХ (тактико-техническими характеристиками) тогдашних вооружений. Суд над Воробьевым вершится скорый и единогласный: очернитель, а быть может, и провокатор! Как хотите, в шестьдесят третьем до такого не доходило. О неразберихе и катастрофических потерях первых месяцев войны тогда помнили. Даже официальная критика, топча «Убиты под Москвой» и «Крик», не упрекала Воробьева во лжи — а ведь живы были миллионы очевидцев. Больше того: фронтовики мгновенно опознали беспримесную правду во всех военных сочинениях Воробьева, как впоследствии те, кто уцелел в плену, увидели такую же мучительную достоверность в первом его сочинении «Это мы, Господи!». Некоторые теперь, на тех же форумах, сомневаются: как мог Воробьев сразу после побега, отсиживаясь на чердаке, за месяц написать повесть о плене? Ему что, делать больше было нечего? Но в одном из лучших его автобиографических рассказов «Картины души» описана страшная, уже послевоенная, угроза безвестной гибели: художнику, тонущему в бурю посреди озера, страшней всего, что никто ничего не узнает. И, видя случайного шофера на берегу, он находит в себе силы, выгребает, спасает дырявую лодку и себя — а тут и спасительный плавучий островок. Воробьев был такой писатель — рассказать свое было ему необходимо физиологически. Ведь не узнают!
Эти упреки во лжи, вымысле, очернительстве, фактической и психологической недостоверности сопровождали тогда — и сопровождают ныне, во дни очередных массовых вспышек самодовольства и паранойи, — всю честную русскую литературу, начиная с Астафьева, который первым из собратьев оценил Воробьева, и кончая Окуджавой, постоянно выслушивавшего от высокопоставленных военных, что «такого на фронте не было». На фронте было все, включая такое, чего не выдумает никакое очернительское воображение, но только слепоглухой и деревянный не почувствует той абсолютной подлинности, которая у Воробьева в каждой детали; не ощутит узнаваемости состояния поверх визуальных и разговорных мелочей, которых тоже не выдумаешь; не увидит сновидческой точности картин боя, отступления, курсантских похорон — это много раз было увидено в подробных кошмарах, прежде чем записано. Воробьев умер в 1975 году от опухоли мозга, частого последствия фронтовой контузии; но и теперь одно животное, не найду другого слова, в Интернете усомнилось: что это его переводили из лагеря в лагерь, недострелили сразу, после первого побега? Может, он был у немцев осведомителем — их же берегли?
Уж подлинно советская власть, со всеми своими орудиями растления, не растлила Россию так, как двадцать лет безвременья, после которых никто не верит ничему.
Истинная мера бессмертия — ненависть. Кто сейчас ненавидит Бубеннова, Бабаевского, Симонова — простите, что поставил настоящего писателя рядом с титанами соцреализма? Даже Трифонова для приличия хвалят, хотя втайне, конечно, чуют классово-чуждость. А Окуджава, Воробьев, Астафьев, Василь Быков, Солженицын — сплошь очернители и прихвостни, вдобавок недостаточно повоевавшие. Чистая логика военкомов: те, кто пишут правду о войне, кому плохо на ней, — плохие солдаты.
Ребята, это же бессмертие! Вот так оно выглядит, а вы как себе представляли? Это же кем надо быть, чтобы в авторе нежнейших и мощнейших текстов в русской послевоенной прозе, в создателе «Моего друга Момича», «Крика», «Великана» увидеть потенциально возможного осведомителя и вруна?! Ведь в текстах Воробьева каждое слово кричит о человечности, о достоинстве, о силе и милосердии, но эти-то качества и неприемлемы для стратегов всех мастей. Им желательно видеть народ тупой массой, радостно ложащейся под серп; безгласным орудием для осуществления их глобальных бездарных замыслов. А потому Воробьев им — нож вострый, даже через тридцать четыре года после смерти. О чем бы он ни писал — о коллективизации, о фронте, о плене, о советском издательстве, о прибалтийском санатории, — он мгновенно вычисляет, люто ненавидит и прицельно изображает всех, кто может подняться только за счет чужого унижения. Всех трусливых демагогов, фарисеев, лицемеров, всех, кто ищет и жаждет доминирования, — тогда как герой Воробьева жаждет одного только понимания и от этого понимания расцветает. Воробьев, может быть, и есть тот идеальный русский человек, каким он был задуман («Я не требовал наград, потому что был настоящим русским» — записные книжки, и ведь правда): рослый, сильный, выносливый красавец, рыбак, плотник, стрелок, партизан, писатель от Бога, с врожденным чувством слова. И такая жизнь — он словно притягивал громы, да и мог ли такой человек вызывать любовь у разнообразных упырей? Упыри ведь тоже обладают чутьем на талант и силу. Им невыносим Воробьев — с его изобразительной мощью, пластическим даром (вспомните описание церкви в «Момиче», портрет Маринки в «Крике»), с его влюбчивостью, избытком таланта, с вечной его вольной усмешечкой — как ненавязчиво и точно он шутит! Каким комизмом пронизан «Великан», самая мирная из его вещей, но и ее топтали, даром что в ней-то никакого военного очернительства. Просто герои уж очень свободны — помню некоторый шок от чтения этой вещи в отрочестве, в старых дачных «Современниках». Я тогда хорошо запомнил Воробьева, и когда лет пятнадцать спустя познакомился с чудесным прозаиком и сценаристом Валерием Залотухой, в какой-то связи упомянул «Великана». «Любишь Воробьева?! — восхитился Залотуха. — Нас мало, но мы тайное общество!» Может быть, именно сочетание независимости и нежности — по крайней мере на уровне стремлений — объединяет всех этих людей, к которым так хочется причислить и себя.