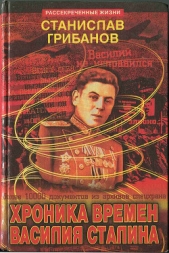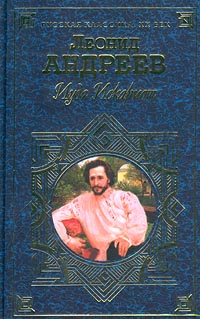Театральные взгляды Василия Розанова

Театральные взгляды Василия Розанова читать книгу онлайн
Книга является первым исследованием философских взглядов В. В. Розанова (1856–1919) на театральное искусство рубежа XIX–XX вв., до сих пор не ставших достоянием культурной общественности. Её персонажи — М. Н. Ермолова, К. С. Станиславский, Ф. И. Шаляпин, Л. С. Бакст, А. Дункан и другие. Приведены интересные подробности из сценической практики Малого, Александрийского и Суворинского театров, Театра В. Ф. Комиссаржевской. Особое место уделено классической драматургии (Гоголь, Л. Н. Толстой, Грибоедов, Чехов, Эсхил, Софокл, Метерлинк, Ибсен, Гауптман), а также ряду драматургов эпохи модерна и революций.
Весомую часть монографии составили не републикованные в постсоветское время статьи Розанова о театре, некоторые архивные материалы и полемика вокруг статьи «Актер». Материалы снабжены научными комментариями.
Издание адресовано читателям, интересующимся творческим наследием Василия Розанова, вопросами театра, религии, истории предреволюционной России, массовой и элитарной культуры Серебряного века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так и Розанов жалеет Свенцицкого, слушая его «молодую» речь. Жалеет и в полный голос издевается над Брандом, которого ставит пониже всех иных ревнителей веры. Реформаторство Бранда призрачно; протестантский пастор слишком строго относится к своему призванию; он «энтузиаст веры», но не ее «обновленец»: «в XIX веке знаменитый архимандрит Фотий в русском обществе проповедовал с не меньшей строгостью, чем ибсеновский Бранд» {401}. Дав еще несколько исторических сравнений Бранду, Розанов далее, в сущности, очень жестоко оскорбляет Свенцицкого, утверждая, что его пастор Бранд — это «Победоносцев сейчас по выходе из Училища Правоведения» {402}. Можно себе только представить, каким было это оскорбление для человека, который держался круга Андрея Белого и Александра Блока. И Свенцицкий действительно обидится — это будет заметно по его ответным, сердитым и еще более бескомпромиссным статьям. В РГАЛИ хранится письмо Свенцицкого Розанову — его датировка не установлена {403}. Речь здесь идет о примирении двух мыслителей; после статей о «Бранде» они оба также обменяются полемическими статьями о загробной жизни (1908) и аскетизме (1912).
В послесловии к статье «Ибсен и Пушкин — „Анджело“ и „Бранд“» (оно дописано Розановым при републикации статьи в сборнике «Среди художников») Розанов скорректирует свое представление о герое норвежского символизма. Бранд, веру которого поднимал на щит Валентин Свенцицкий, — все же не Бранд Ибсена. После прослушивания лекции в РФО Розанов посмотрел спектакль Художественного театра: «…в дивном изображении Художественного театра Бранд показан менее „идеалистом-реформатором“, нежели патологическим субъектом, с крайне плохой прогностикой» {404}. Конечно, это еще одна колкость в сторону Свенцицкого, но уже с помощью чужой сценической интерпретации. Описание роли Василия Качалова необычно, но подтверждение тому можно найти у критика Сергея Яблоновского, который писал, что Качалову элементарно не хватает физических сил, чтобы сыграть роль столь монументального героя. Но эта слабость, по мнению критика, — признак художественной силы: Бранд у Качалова — слабый, «хнычущий» герой {405}, а это — уже концепция! Ее-то и поддерживает Василий Розанов.
Достоин внимания тот факт, что никто из критиков с Брандом не хочет «справляться» при помощи самой пьесы Генрика Ибсена. Лавину, погребающую пастора в финале, в 1906 году никто не воспринимает как знак божественного провидения, вершащего суд над «религиозным экстремистом». Современники хронически не замечают глубокой иронии, которая лежит в самом тексте «Бранда», пьесе о глубоком фиаско человека, посмевшего сказать: «Все — или ничего!», пьесе с античным конфликтом возгордившегося человека и сурово наказующего его Бога. Это тема для специального герменевтического исследования: люди революционной эпохи (включая Розанова, кстати говоря) не способны допустить и капли иронии по отношению к революционным героям, к любым, даже самым радикальным реформаторам. Революция — в самой крови людей эпохи революций.
Своей апологией Бранда и его «Бога небес» Валентин Свенцицкий взывает к еще большему отдалению христианства от Мира. И Розанов отвечает ему мещанской «оплеухой», которая низводит символистских мечтателей до уровня земли. «Круп [детская болезнь. — П.Р.] ужаснее Голгофы» {406}, — пишет Розанов. Путь к небесам, к божественному Абсолюту подразумевает невозможное страдание на каждом этапе восхождения. Безрассудный Свенцицкий будто бы готов к нему, «земной» Розанов — нет: «Да я страдал даже когда рождался: таз матери, естественный человеческий таз, так узок, что рождение подобно ушибу, и я начал жизнь с ушиба, потому что „Бог“ ваш, а по-моему бес, не бросил страдалицам-женщинам, рождающим детей, такой для „всемогущества“ Его, с позволения сказать, корки плесневелого хлеба, как лишний дюйм тазового отверстия» {407}. Развивая тему отплаченного страдания Иисуса и непосильного страдания человеческого, Розанов противопоставляет Бранда и доктора-акушера своей матери. Тот, облегчивший страдания роженицы, не только не взял денег с бедных Розановых, но незаметно от матери положил ей под подушку «желтенькую бумажку, старый наш русский рубль». Обращаясь к Свенцицкому, Розанов упрекает: «этот врач, по-вашему, — ничтожнейший человечишко, был „гора“, имел „горнюю веру“» {408}.
Полемика вокруг «Бранда» в своей духовной основе может быть причислена к кругу статей, в которых угадывается розановское сочувствие авторам «Вех», эпохального сборника 1909 года. Ссоры с Петром Струве помешали писателю в нем поучаствовать, но целым рядом восторженных статей о «Вехах» Розанов подтверждает свое внутреннее согласие с великим покаянием русской интеллигенции. Не случайно ¾ всех упоминаний имени Розанова в сочинениях Ленина посвящена тому, как «нововременец» восторгается ненавистными Ильичу антиреволюционными «Вехами».
«После многих неудачных кривых зеркал перед „интеллигенцией“ было поставлено научно выверенное зеркало, — взглянув в которое она отшатнулась и закричала» {409} — в понимании Розанова, авторы «Вех» отказывались от того пути, который проповедовали Дмитрий Мережковский и его окружение. В программной статье Сергея Булгакова «Героизм и подвижничество» под героизмом подразумевался тот самый революционный радикализм Мережковских, который эхом отзывается и в философии «Христианского братства борьбы». Именно тогда и Булгаков, и Бердяев, и многие другие пойдут по пути Шатова, героя «Бесов», и эта вечная русская «шатовщина» {410} уже не успеет спасти Россию, но образумит хотя бы некоторую часть российской интеллигенции. Доктор-акушер, противостоящий пастору Бранду, — это реальное воплощение той самой теории «малых дел», подвижничества, которую проповедовали «веховцы», разочарованные итогами первой русской революции и избравшие путь покаянного ренегатства. В статье «Мережковский против „Вех“» (1909) Розанов произносит очень важные слова: «Нравственный позор революции и интеллигенции заключался в ее хвастовстве, в ее бахвальстве, в ее самоупоении. Это было какое-то дубовое самоупоение, которого не проткнешь <…> Все, от чего погибло христианство, — это бахвальство попов, это самоупоение митр, эта „непогрешимость“ их» {411}. Тот же нравственный позор гордыни замечает он в фигуре революционера Бранда: «Пастор Бранд так горд, что не хочет поклониться, а требует, чтобы ему поклонялись» {412}. В «Апокалипсисе нашего времени» эта мысль разовьется до «нравственного позора» Иисуса Христа, первого абсолютно безгрешного Бога, до которого никому из смертных не суждено дотянуться, не стоит и пытаться.
Интересна дальнейшая судьба «безрассудного» Свенцицкого (он, кстати, написал несколько пьес, а в одной из них — «Пасторе Реллинге» — играл Орленев). В 1908 году его исключат из московского Религиозно-философского общества с формулировкой «за аморальное поведение» (был обвинен в воровстве кассы МРФО — какая параллель! — и садистических отношениях со своими многочисленными женщинами). Перед Октябрьским переворотом он примет сан священника, а в 20-е годы будет гоним и НКВД, и официальной церковью, результатом чего станут две ссылки — одна по доносу чекистов, другая — по навету одного церковника. Его статья «В защиту максимализма Бранда», где Свенцицкий дает отпор всем критикам его веры (в их числе не только Розанов, но и, к примеру, Евгений Трубецкой), завершается следующим, очень личностным пассажем: «Но все же я „рыцарь Господа“; все же напрягаясь до язв кровавых я, как умел, шел к этой Любви. Я заблуждался, падал, но верю, Бог простит меня, потому что шел я туда, где единое спасение мира. Оно не покупается ценою „желтенького рубля“[акушер Розанова! — П.Р.], оно покупается ценою побежденной смерти. В этом — все. Иного я не приму. На ином не успокоюсь. Или все — или ничего!» {413}.