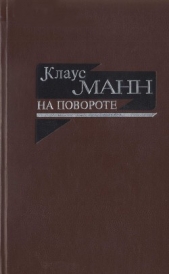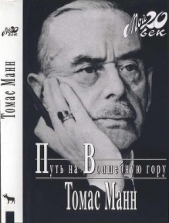Тренинги свободы

Тренинги свободы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так-то оно так, но несколько часов спустя закрыли границы. Австрия перекрыла судоходство по Дунаю. На что Венгрия и Румыния ответили тем же. Вот тут я уже сказал моим товарищам, чтобы и они навострили уши. Одному из них удалось остаться в пустой конторе один на один с радиоприемником. Выяснилось, что заседание Совета Безопасности действительно состоялось. Что-то зашевелилось, тронулось, от информационных агентств, разведки, военных атташе новости хлынули потоком, теперь, быстро пересекая двор, я уже не притворялся, что очень спешу. Президент Тито направил венгерскому правительству ноту, протестуя против нарушения международных договоренностей относительно Дуная. Дунайской флотилии был дан приказ находиться в состоянии боевой готовности. Нейтральные государства Европы под предлогом военных маневров объявили всеобщую мобилизацию. Но самые большие подозрения порождал тот факт, что о происходящем ничего не сообщало не только известное своей лживостью венгерское радио, но и радио «Свободная Европа», которому, как было известно, доверять и вовсе нельзя. Мы были заперты.
На следующий день демонстрация силы продолжалась. Министры обороны государств — членов Варшавского договора, судя по всему, собрались в Праге. Коричневые конверты теперь даже не запечатывались. Из больших европейских столиц вызвали послов для доклада. Оттуда же выдворили русских дипломатов и журналистов, обвинив в том, что они являются секретными агентами. Еще более секретные агенты продолжали работать и засекли оживленную передислокацию воинских частей на итальянской границе. В донесениях сообщалось, что на норвежских базах опустели доки подводных лодок. Дороги, ведущие к турецким аэродромам, охраняет армия. Мы также обратили внимание, что некоторые офицеры Генштаба, до сих пор ходившие в штатском, вдруг все как один облачились в мундиры, с кобурой на ремне. Радио по-прежнему ни о чем не знало — не ведало, и на погруженный в глухую тишину казарменный двор тяжело оседал ноябрьский продымленный туман.
Был у нас высокого ранга молодой офицер с большими печальными глазами, который пользовался любым случаем, чтобы поговорить со мной. Он приметил, когда я с сослуживцами хожу обедать, и всякий раз шел за мной или окликал в во дворе между двумя казарменными зданиями. Его стремление сблизиться со мной можно было объяснить единственно возможным образом. Я тотчас пошел на шантаж — спросил, действительно ли речь идет просто об учениях или ситуация обостряется. Он был худощавый смуглый мужчина с резкими заостренными чертами лица. Его черные волосы то и дело падали на лоб. Мы стояли в слабо освещенном коридоре; он чуть-чуть пожал плечами, посмотрел на меня своими печальными глазами и не ответил. Я глянул в окно, по тихой будайской улице люди шли как всегда, словно ничего не случилось. Как же мне подать весть моим любимым, и разве это не мой нравственный долг оповестить ни о чем не подозревающий внешний мир!? Телефоны стояли на каждом столе, но выйти на городскую линию имели право далеко не все. Реальность надвигающейся опасности подтверждало то, что в этот день за потоком новостей последовала многочасовая пауза. Как будто мир испуганно затаил дыхание и еще раз задумался о том, что вот-вот может случиться.
На рассвете я вынужден был разбудить моего сменщика последней новостью: в Канзасе крышки над шахтами межконтинентальных ракет открыты.
Разинув рот, он молча таращился на меня, потом вскочил с койки; мы стояли друг против друга, меня сотрясала позорная дрожь, она передалась и ему. Мы знали, что нас ждет.
Он впопыхах оделся и вылетел пулей, а я разделся. Спать я должен был в той же койке. Я вертелся без сна в тепле его тела.
Если щель в замке пускового механизма останется в вертикальном положении, значит, мир. Если вставить в нее тот пресловутый ключ и повернуть его горизонтально, значит, война.
И неважно, что уже спустя несколько часов стало ясно, что это лишь симуляция. Беспомощность, запертые двери, страх и обреченное на немоту терпение прорезали в памяти еще одну глубокую борозду, и в этой борозде, как прочно усвоенный жизненный опыт, угнездилось недоверие. Оно стало психической реальностью моей жизни. Теперь нам уже позволительно знать, что произошло, но стереть это невозможно, и если тот пресловутый ключ так никто и не повернул в те дни, стало понятно и то, как параноидальное мышление холодной войны пожирает трезвый разум.
В ту самую минуту, когда в задымленном дворе штаб-квартиры венгерской военной разведки я узнал, что меня просто надули и иного варианта моей жизни нет, один из самых удачливых за все времена военный разведчик, Джордж Блейк, в литературном кружке лондонской тюрьмы договаривался с двумя выходившими на свободу узниками об организации его побега, а Понтеру Гийому удалось внедриться в партаппарат немецких социал-демократов, и он сразу же отказался от своей доходной табачной торговли во Франкфурте. Когда в Сайгоне молодой буддистский монах на улице облил себя бензином, совершив акт самосожжения, посол Генри Кэбот Лодж, едва ли в двухстах метрах от него, определял соотношение между параноидальным мышлением и здравомыслием и писал президенту Кеннеди: «Мы вступили на путь, с которого невозможно вернуться с честью».
Архивы теперь открыты. И можно узнать, как встраивались друг в друга, как действовали внутри друг друга великие паразитические мировые державы и кому в какой из них какая досталась роль или какую роль кто предназначил для себя. Я сидел в засекреченном центре власти одного из миропорядков. За мной присматривали, чтобы я не оказался в опасной близости к оперативным материалам, да я и сам об этом заботился. И все же я не мог бы сказать, будто у меня была какая-то другая личная жизнь. Из разумной самозащиты я выполнял все распоряжения, чтобы никому даже в голову не пришло, что меня можно использовать еще и на что-то иное, а не так, как меня использовали. И пусть ничего не знают. Ты как бы сам должен следить, чтобы не коснуться рукой даже дверной ручки, хотя через эту дверь обязан входить-выходить по сто раз на дню.
Между тем, просто в виду моих литературных планов, меня до смерти интересовало, что же здесь делают. И все-таки не из осторожности я делал вид, будто мне все это безразлично. Приходилось вводить в заблуждение самого себя. Даже того, что мне стало известно об этой работе, было более чем достаточно, чтобы считать ее нравственно неприемлемой. Но мне и в голову не приходило, что по тем же моральным основаниям я должен был вообще отказаться от этой службы. И чувствовал себя счастливчиком — ведь вот с какой необычной точки зрения я имею возможность наблюдать мое собственное двуличие. Иногда я с наслаждением представлял, как все было бы, решись я посвятить себя столь исполненной приключений и опасной работе.
Существовало одно строжайшее правило, непреложность которого не подвергалась сомнению. Вне стен казармы рядовым солдатам ни при каких обстоятельствах нельзя было кого-либо узнавать. До демобилизации мне оставалось совсем немного; я ехал в почти пустом трамвае и вдруг почувствовал, что кто-то смотрит мне в затылок. Действительно, на открытой площадке стоял знакомый молодой офицер, в штатском. Я не знал, как он оказался на этой службе, но свой высокий чин он, несомненно, получил за особые заслуги, и то, что он сейчас ехал рядом со мной в трамвае не было, думаю, самой сомнительной из них с моральной точки зрения. Трамвай дребезжа вез нас по проспекту Верпелети, но еще не свернул на мост. Офицер подошел ближе. Сейчас, стоило бы мне захотеть, я мог выбрать для себя самую что ни на есть опасную жизнь. В его огромных темных глазах было что-то глубоко трагическое, и, как ни странно это звучит, он нуждался в моей помощи. Пока мы громыхали по гулкому мосту Петефи, я несколько раз отказал ему в помощи и по меньшей мере столько же раз снова встречался с ним глазами. Мы стояли рядом, молча и напряженно.
Держась за поручни, погруженные в собственные печали, мы искоса наблюдали, каким образом другой, борясь с волнением, рискнет нарушить один из основных параграфов устава. Каждый ждет, что увидит это по губам, по глазам другого и — надеется. Наша печаль отличалась не глубиной своей, а по самой своей сути, отчего искушение лишь усиливалась. На площади Борарош я буквально пулей выскочил из трамвая. Он молча последовал за мной. Зима 1964 года была необыкновенно суровой, мы, скользя, перебирались через всю, покрывшуюся грязной ледяной коркой, площадь. В темной толпе мне пришлось долго дожидаться автобуса. Мы согревались теплом друг друга. Тому, кто вырос при диктатуре, иной раз легче вообразить, что его сознательно подставляют, чтобы потом шантажировать. И он не верит собственным глазам и даже перестает это замечать, что ничему не верит. А через какое-то время сам уже напоминает колючее растение, усохшее до предписанной ему формы существования. Стиснутый толпой, я уехал на своем двадцать третьем автобусе.