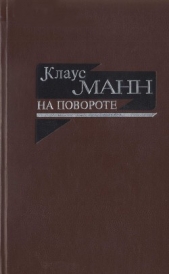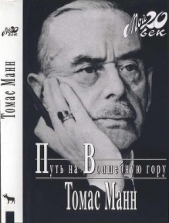Тренинги свободы

Тренинги свободы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И никогда не вытекало. Традиции сорок восьмого года к сегодняшнему моменту себя исчерпали, сейчас на первый план вышла скорее их проблематичность, которую мы не осмеливались замечать на протяжении полутора столетий сопротивления. Говорить же о традициях пятьдесят шестого года просто нет смысла: они не пережили кадаровскую эпоху. Не случайно первое свободно избранное венгерское правительство в поисках традиций, на которые оно могло бы опираться, обратилось к хортизму, второе свободно избранное правительство — к традиции кадаризма, то есть к таким традициям, от которых они, в интересах буржуазного развития, должны были бы решительно откреститься. Ведь эти два режима, на первый взгляд совершенно чуждые друг другу, на самом деле во многом, конечно, схожи. Клерикально-феодальное сознание, господствовавшее в эпоху хортизма, и семейственно-лакейское сознание кадаровского режима вовсе не противоречат друг другу. Обоим свойственно полное отсутствие чувства реальности, социальной чуткости, солидарности и ответственности. Первый обращен к истории, к славному прошлому, второй — к утопии, к светлому будущему; но в одном они тождественны: оба норовят в настоящем потратить деньги, которые не ими заработаны. А раз таких денег нет, остается воровство, обман, грабеж, коррупция.
Если отсутствуют общеупотребительный демократический язык, демократическая ментальность, то в этих условиях что могут делать демократические общественные институты? Естественно, во всем регионе они работают вхолостую. Молодые демократические государства до сих пор не сумели найти общего языка ни друг с другом, ни с большим европейским демократическим сообществом. Управляемые своими свободно избранными правительствами, они сползли назад, в привычную, комфортную изоляцию; хотя, различными способами и на различных уровнях, на протяжении четырех десятилетий все же протестовали против нее. Протест этот был иногда неуклюжим, иногда эффектным, иногда робким, иногда кровавым… Если бы госпожа Олбрайт все-таки задумалась над предложением Гавела и если бы ее благополучно избрали президентом Чехии, ей пришлось бы сразу каким-то образом попытаться понять безумную логику этого попятного движения.
На второй же день после инаугурации она вынуждена была бы с головой погрузиться в такие проблемы, с которыми прежде не сталкивалась даже в докладах секретных служб. Ей то казалось бы, что она столкнулась с какими-то не поддающимися пониманию языковыми трудностями, то появлялось бы ощущение, будто она должна преодолеть некие странные различия ментального порядка.
Чехи считали бы, что понимают ее; какое-то время и она была бы уверена, что понимает их. Хотя она постоянно чувствовала бы, что, несмотря на общий язык, или она чего-то не понимает, или они что-то понимают не так. Трудно предположить, что, выступив со своей идеей, президент Гавел не подумал о тех языковых сложностях, которые в этом смелом предприятии неизбежно возникнут. Но, возможно, он именно потому и сделал свое дерзкое предложение, что имел их в виду. Он словно вообразил для действующего американского госсекретаря некую другую жизнь — и, следуя логике своей фантазии, попытался вовлечь госпожу Олбрайт в такой учебный процесс, от которого до сих пор уклонялись все сколько-нибудь значительные политические деятели большого демократического сообщества.
Надо думать, прошло бы не так уж много времени, пока госпожа Олбрайт поняла бы: эта странная неясность языка — вовсе не неясность, а просто-напросто другой язык. Уже интегрировавшийся в целостную систему общеупотребительный язык диктатур, язык, который невозможно перевести на языки, которыми владеет она. Язык этот, словно плотный смог, висит в роскошных залах Градчан, и тщетно госпожа президент распахивает окна: смог не рассеивается. Несколько позже она обнаружила бы, что на политической сцене не только Праги, но и Братиславы, Варшавы, Будапешта, Загреба, Любляны, Бухареста много душевнобольных и паяцев, и они общаются со своими избирателями на таких же странных языках. Ибо их избиратели в массе своей не просто терпят выходки этих больных людей, но прямо-таки приветствуют их истерики. Они вообще рады всякой истерике, так как в конвейере диктатур стали злобными и раздражительными. Они постоянно пребывают в состоянии ярости. Они не умеют слушать других. Они не способны на сострадание и солидарность. Они утратили ощущение меры и в политическом, и в эстетическом плане. Ни чувство гражданской ответственности, ни чувство ответственности перед самими собой им неведомы. К тому же они живут в убеждении, что весь мир вокруг них живет, думает, поступает так же, как они. Вот когда Мадлен Олбрайт испытает все это на себе, расчет Гавела начнет оправдываться.
Тогда она уже будет близка к пониманию, что дело-то в общем совсем простое. После диктатур тут нет граждан — есть только жители, народонаселение. Нет среднего класса. Есть несколько нуворишей, но нет национальной буржуазии. Политические партии не представляют никого и ничего, кроме самих себя и своих маниакальных идей; избиратели же мечутся между ними все в большей растерянности. Государство ограблено уже несколькими правительствами, то есть именем всех парламентских партий. У бедных практически нечего больше отнимать. Почти не осталось лакомых кусков, а значит, не на что содержать бесчисленную армию дармоедов и привилегированных прихлебателей, роящихся вокруг любого правительства. Коррупция и преступность настолько велики, что больше уже и быть не может, как и правовая защищенность уже не может быть слабее; но подрастающей национальной буржуазии даже в этих условиях негде брать деньги, чтобы накопить достаточный капитал. Перед обществом всех этих стран стоит один-единственный кардинальный вопрос: а возможно ли первоначальное накопление капитала в эпоху глобализации? И, если невозможно, откуда тогда взяться среднему классу, откуда взяться национальной буржуазии?
Ибо, если они не появятся, не будет здесь и нормальной, разумной политической жизни. А в этом случае — имеет ли демократия хоть какие-то реальные перспективы?.. Потому, надо думать, и возникла у Вацлава Гавела эта его гротескная идея: просто он хотел — хотя бы в такой вот метафорической форме — предупредить нас обо всем этом.
Паразитические режимы
Все началось так же, как обычные военные учения, — с тревоги.
Я и двое моих товарищей получили задание отнести полученный у офицеров Генштаба коричневый конверт шифровальщикам, а когда они свое дело сделают, передать радистам. Затем проделать все то же самое в обратном порядке. Прошло несколько недель, пока до меня дошло, что нас не просто перевели в другую казарму, что теперь я нахожусь в штаб-квартире венгерской военной разведки. Изображая спешку, мы бегали взад-вперед с коричневыми конвертами через огороженный казарменными зданиями глубокий двор, куда затянутое тучами ноябрьское небо буквально вжимало угольный дым окрестных труб.
Мне было совершенно все равно, что делать в течение двух лет, пока приходится отбывать воинскую повинность. Я даже радовался тому, что не слоняюсь дни напролет без толку, а занимаюсь своей профессией — фотографией. Вокруг всюду были решетки, запоры, без разрешения я не мог выйти даже из своей темной комнаты. Я снимал копии с документов, делал фотографии для удостоверений, увеличивал неуклюжие любительские снимки офицеров. Но события стали разворачиваться с неожиданной быстротой, и мы свободнее передвигались по извилистым коридорам казарм. Хотя особых событий уже никто и не ждал. После кубинского кризиса все жили в уверенности, что, в конце концов, ни та, ни другая сторона начать не решится.
При диктатуре изменилось и значение слова «секретно», потому что диктатура сознательно изменяет значения слов.
Солдат, который нес службу при шифровальщиках, подтолкнув ко мне запечатанный красной сургучной печатью строго секретный конверт, не задумываясь рассказал, что в нем за информация. Созвали Совет Безопасности. Ну и что, кому до этого дело. Великие державы непрерывно провоцировали друг друга, и почти невозможно было уследить за всеми совещаниями, которые они непрерывно созывали. А потом не слишком-то и верилось, чтобы среди гор лжи и искажений действительности мог бы вдруг объявиться здравомыслящий человек. Взять не подвергшиеся искажению факты было просто неоткуда, и потому все обменивались друг с другом достоверными сведениями, но верили только тому, что видели собственными глазами, то есть добровольно вернулись к способам коммуникации, известным с древности. Взаимное недоверие великих держав, постоянно и взаимно подпитываемое, превратило их идеологии поистине в окаменелости, и между этими глыбами человек все отчетливей чувствовал, что знать что-либо точно попросту невозможно, фактов нет, всё — лишь слова, пустые слова.