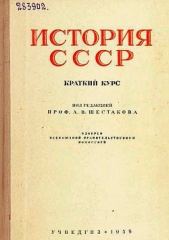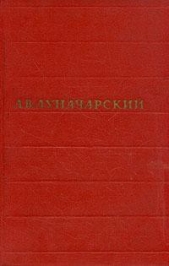Советская литература. Краткий курс

Советская литература. Краткий курс читать книгу онлайн
В новую книгу Дмитрия Быкова вошло более тридцати очерков о советских писателях (от Максима Горького и Исаака Бабеля до Беллы Ахмадулиной и Бориса Стругацкого) — «о борцах и конформистах, о наследниках русской культуры и тех, кто от этого наследия отказался».
В основу книги были положены материалы уроков для старшеклассников и лекций для студентов МГИМО — помимо интенсивной писательской и журналистской работы Д. Быков ведет и плодотворную педагогическую деятельность.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что до его биографии — она не слишком богата любовными увлечениями (или по крайней мере мы о них не знаем): все борения протекали в сфере литературной, идеологической, культурной, все подвиги совершены в сфере общественной (а таким подвигом был отказ подписать мерзкое письмо с требованием выслать евреев в 1953 году и личное обращение к Сталину с мотивировкой). Личной жизни вообще не было. Была смертельная опасность — многажды; правильней сказать, что для человека эренбурговского склада это было постоянным фоном жизни, почти нормой. Тот, кто равно подвергался опасности в воюющей Испании, осажденном немцами Париже, во время Великой Отечественной (все помнят личный гитлеровский приказ после взятия Москвы разыскать и повесить именно Эренбурга), — вообще не знал, что такое безопасность; профессией Эренбурга было, в сущности, хождение по весьма тонкому канату. Все, что он сказал и написал, написано на этом канате. Не думаю, что это гарантирует высокий художественный результат. Но это само по себе — выдающееся художественное произведение. Добавим, что в долгой, семидесятишестилетней жизни Эренбурга практически нет поступков, которых ему стоило бы стыдиться. И не зря Борис Слуцкий в стихах на его смерть написал: «Выиграл последнее сражение». Кстати, не будь Эренбурга — и Слуцкого не опубликовали бы, даже в оттепельные времена.
Эренбург сделал больше других современников (как и Пикассо в своей сфере) для формирования нового класса, для перехода народа в новое состояние. Ведь советская интеллигенция и была этим новым состоянием народа — она разучилась верить лозунгам, научилась говорить «нет», она открыла для себя великий европейский контекст, и этой интеллигенцией можно было гордиться. Это она сделала все лучшее в позднем СССР — от нового фольклора, названного авторской песней, до научных и технических прорывов, от грандиозного кинематографа до одной из лучших в мире систем высшего образования. Это она вошла в противоречие с политической системой и не смогла ее изменить — от какового столкновения и погибла вся позднесоветская душная теплица. Эта интеллигенция Эренбурга читала — и чтила. И пела песню на его стихи — «И в крепкой, ледяной обиде, сухой пургой ослеплены, мы видели, уже не видя, глаза зеленые весны».
Если мне не изменяет чутье — еще одна замечательная, тоже весьма еврейская способность, воспитанная долгим принюхиванием к опасности, — сейчас эта интеллигенция возрождается, да и дети ее подросли, а они воспитаны на тех же книжках. И, стало быть, неизбежен новый интерес к Эренбургу — сначала к тому, что он делал, потом к тому, что писал.
Как знать, в конце XXI века он вполне может взять реванш, а его тексты, прочитанные наконец глубоко и внимательно, оттеснят прозу тех, кто слишком хорошо понимал, где правда, а где неправда. Эренбург — писатель того будущего, где четкая форма и внутренняя борьба станут нормой. Наши дети до этого доживут.
НЕСТРАШНЫЙ СВЕТ
Александр Твардовский (1910―1971)

Перед юбилеем Твардовского несколько теле- и радиоканалов спрашивали вашего покорного слугу, как он относится к Твардовскому. В расспросах угадывалось не вполне объяснимое злорадство.
— Но ведь Твардовского не читают, — заявляли опрашивающие девушки, которые, если честно, сами вряд ли его когда-нибудь открывали. И тут уже впору орать, перефразируя Мандельштама: «А Гомера читают? А Иисуса Христа читают?».
Я бы еще понял, если б действительно возобладала лирика, которой Твардовского традиционно противопоставляют: ненарративная, суггестивная, метафоричная, асоциальная, а говоря по-русски — красивая и непонятная. Но давайте попросим первого встречного, да хоть бы и студента-филолога, прочесть наизусть по одному стихотворению — ладно, четверостишию — Цветаевой, Пастернака, Мандельштама: в лучшем случае вспомнят «Спасибо вам, что вы больны не мной» или остановятся на строчке «Тоска по Родине. Давно…». Поэзия Твардовского побеждена не другой поэзией, а общим врагом всей литературы — бессмыслицей: стихи читаются не во всякое время. Их задача во все времена — незаметно, исподволь формировать некоторые душевные качества, которые сегодня не просто не востребованы, а потенциально опасны. Стихи нужны в любви и на войне, в работе, в претерпевании невзгод, в настроении утопической мечтательности, но для имитации всего и вся, для перетерпевания жизни и спуска апокалипсиса на тормозах они излишни, а то и губительны. От них отдергиваешься, как от ожога. Задаваемый вот уж лет двадцать вопрос: «Почему не читают поэзию?» пора переформулировать: «Почему не живут?» Писать, как показывает опыт, можно во всякое время и почти в любом состоянии: это самая мощная аутотерапия, известная человечеству. Но вот читать — больно, это как напоминание о других мирах, из которых тебя низвергли.
На этом фоне Твардовскому еще вполне повезло, потому что — в отличие от Бродского, скажем, — он вызывает живое раздражение, а кое у кого и злобу. Лично знаю нескольких современных поэтов, считающих долгом публично заявлять: не люблю Твардовского, он не поэт, вообще не понимаю, что это за литература… Любопытно, что и Бродский, скажем, — который Твардовскому в числе прочих заступников был обязан досрочным освобождением, — отзывался о нем весьма скептически: было в нем, дескать, что-то от директора крупного предприятия… Ну было. А о Липкине, допустим, тот же Бродский говорил восторженно: «О войне… за всю нашу изящную словесность высказался. Спас, так сказать, национальную репутацию». Хотя масштабы, мягко говоря, несопоставимы, а у Липкина в самых неожиданных контекстах — в довольно слабых, например, «Размышлениях Авраама у жертвенника» — заговорит вдруг чистый Твардовский своим хромым четырехстопным хореем: «Наколол, связал дрова, нагрузил на сына… Исаак молчал сперва, смолкла и долина». Да что Бродский! Ахматова лестно отзывалась о том же Липкине, Тарковском, Петровых, а о «Теркине» говорила: что ж, в войну нужны веселые стишки…
Нет, я все понимаю: «Трифоныч» и сам был не подарок. Искренне сказал однажды Слуцкому о своем месте в поэзии: «Первый парень на деревне, а в деревне один я» (и Слуцкий расслышал за стенкой купе сардонический смешок Заболоцкого, которого Твардовский однажды до слез обидел, высмеяв гениальную строчку «животное, полное грез»). Он способен был ценить лишь вещи, написанные в его собственной или близкой эстетике, и, думаю, пределом его вкусовой широты был Блок; но корпоративность Твардовский соблюдал, Ахматову печатал, Пастернака не травил, Заболоцкому цену знал. Бродский, разумеется, не мог ему простить отказа напечатать норенские стихи — «В них не отразилось пережитое вами», — но ведь и тут бывают странные сближения. Легче всего сказать, что двустопный анапест ранней автоэпитафии «Ни страны, ни погоста…» воспринят Бродским — как и всем его поколением, Кушнером, скажем, — через пастернаковскую «Вакханалию»: «Город, зимнее небо, тьма, пролеты ворот…» Но вот вопрос — у Пастернака он откуда? Кто первым в русской лирике начал систематически разрабатывать этот размер с его вполне конкретной семантикой вечной разлуки и мысленного возвращения на место любви? «Поездка в Загорье» 1939 года: «Что земли перерыто, что лесов полегло, что границ позабыто, что воды утекло! Тень от хаты косая отмечает полдня. Слышу, крикнули: „Саня!“. Вздрогнул. Нет, не меня». Все это еще, конечно, прикидки, эскизы к главному — к одному из величайших, по любому счету, русских стихотворений XX века: «Я — где корни слепые ищут корма во тьме; я — где с облачком пыли ходит рожь на холме; я — где крик петушиный на заре по росе; я — где ваши машины воздух рвут на шоссе…» То есть напишешь «одно из величайших» — и сам себя окорачиваешь: да ладно, в том же «Ржеве» такие вкусовые провалы! Оно должно быть короче в три раза, и оставить бы от него первые сорок строк да последних столько же — цена ему была бы много выше. «Нет, неправда! Задачи той не выиграл враг» — ну зачем здесь это? Но с другой стороны — кто говорит-то? Поэт? Нет — солдат, наслушавшийся политработников, и немудрено, что в его монологе, даже посмертном, застряли газетные штампы. Все в этом стихотворении, любые длинноты прощаются за: «Я убит и не знаю — наш ли Ржев наконец?». Это уж я не говорю о том, что он первый вслух заговорил о ржевской катастрофе 1942 года, за правдивый рассказ о которой Алексею Пивоварову и в наши дни прилетело дай Боже.