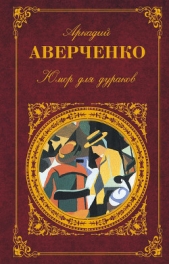Что такое литература?

Что такое литература? читать книгу онлайн
«Критики — это в большинстве случаев неудачники, которые однажды, подойдя к порогу отчаяния, нашли себе скромное тихое местечко кладбищенских сторожей. Один Бог ведает, так ли уж покойно на кладбищах, но в книгохранилищах ничуть не веселее. Кругом сплошь мертвецы: в жизни они только и делали, что писали, грехи всякого живущего с них давно смыты, да и жизни их известны по книгам, написанным о них другими мертвецами... Смущающие возмутители тишины исчезли, от них сохранились лишь гробики, расставленные по полкам вдоль стен, словно урны в колумбарии. Сам критик живет скверно, жена не воздает ему должного, сыновья неблагодарны, на исходе месяца сводить концы с концами трудно. Но у него всегда есть возможность удалиться в библиотеку, взять с полки и открыть книгу, источающую легкую затхлость погреба».
[…]
Очевидный парадокс самочувствия Сартра-критика, неприязненно развенчивавшего вроде бы то самое дело, к которому он постоянно возвращался и где всегда ощущал себя в собственной естественной стихии, прояснить несложно. Достаточно иметь в виду, что почти все выступления Сартра на этом поприще были откровенным вызовом преобладающим веяниям, самому укладу французской критики нашего столетия и ее почтенным блюстителям. Безупречно владея самыми изощренными тонкостями из накопленной ими культуры проникновения в словесную ткань, он вместе с тем смолоду еще очень многое умел сверх того. И вдобавок дерзко посягал на устои этой культуры, настаивал на ее обновлении сверху донизу.
Самарий Великовский. «Сартр — литературный критик»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что касается нас, то самой жизнью мы принуждены отражать взаимосвязи между "быть" и "делать" в современную эпоху. Есть ли человек то, что он делает? Есть ли он то, чем он становится? Есть ли вообще человек в нашем обществе с полностью отчужденным трудом? Что предпринять, какую цель поставить перед собой современному человеку? Какими средствами ее выполнять? Как определить связь цели и средства в обществе, пропитанном насилием?
Если книга поднимает такие вопросы, она не столько нравится, сколько раздражает и тревожит. Она выглядит трудной задачей, которую необходимо решить, она зовет к поискам без скороспелых заключений, предлагает принять участие в экспериментах с двусмысленным исходом. Тягостные вопросы не могут доставлять радость. Если такую книгу удается написать, она становится, скорее, чем-то неотступным, навязчивым. Она изображает мир, который требует не утонченного способа "видения", а изменений. Но прежний мир, истрепанный до дыр, перещупанный и перенюханный, ничего от этого не потеряет.
Начиная с Шопенгауэра, считается, что объекты можно воспринять во всей их самоценности, только если мы погасим в себе волю к власти. Они посвящают в свои тайны только праздное любопытство, писать о них разрешается только в том случае, когда нечего делать. Надоевшая описательность минувшего столетия означает отрицание утилитарности: мироздание не ощупывают руками, его осматривают в сыром, необработанном виде. Писатель отличается от идеолога буржуазии тем, что выбирает подходящее время для разговора о вещах, время, когда конкретные отношения разорваны, за исключением нити, тянущейся от зрачка, время, когда пучки тончайших ощущений распадаются без остатка. Это торжество впечатлений как таковых: впечатлений от Италии, Испании, Востока. Эти осознано воспринятые пейзажи литература предоставляет нам в двоякий момент. Уже закончен прием пищи и начато пищеварение. Субъективность уже отразилась на объективном мире, но ее кислоты еще не начали его разъедать. Поля и леса – это еще поля и леса, но одновременно и состояние души. Холодный полированный мир создан в произведениях буржуазных писателей. Это мир для. Он искренне дарит нам скромную радость или изысканную меланхолию.
Можно увидеть его из своего окна, но нас в нем нет. Если автор решается поселить туда крестьян, то они совсем не гармонируют с прихотливыми очертаниями гор, с серебристыми лентами рек. Крестьянин, вскапывая землю мотыгами, вовлекает ее в свою работу. А мы видели ее в наряде для выхода. Эти труженики, потерянные во вселенной на седьмой день ее творения, напоминают академика, созданного Жаном Эффелем, и взятого Пруво в одну из своих карикатур. Этот академик виновато говорит: "Я случайно оказался не в том рисунке". Возможно, крестьяне кажутся лишними потому, что они уже превращены в объекты – в объекты и состояния души.
Мы считаем, что делать означает быть. Каждый жест создает новые фигуры на земле. Любой технический прием, любой инструмент оказывается обращенным на мир чувством. У вещей столько обликов, сколько есть способов ими воспользоваться. Мы ушли от тех, кто хочет владеть миром, и присоединились к тем, кто стремится его изменить. Это желание изменить мир раскрывает тайны его бытия. Лучше всего знакомишься с молотком, по словам Хайдеггера, когда начинаешь им бить. И с гвоздем, когда забиваешь его в стену, а со стеной, когда вбиваешь в нее гвоздь.
Сент-Экзюпери показал нам путь, он открыл, что самолет для пилота становится органом чувства. Горы при скорости в 600 километров в час и в новой перспективе полета кажутся клубком змей. Они высятся, чернеют, обращают к небу свои тяжелые каменные головы, пытаются навредить, ударить. Скорость собирает и спрессовывает вокруг самолета складки земного покрова. Сантьяго вдруг оказывался соседом Парижа. С четырнадцати тысяч футов таинственный путь, соединяющий Сан-Антонио с Нью-Йорком, сияет, словно рельсы на солнце. Можно ли помнить об описаниях после Сент-Экзюпери, после Хемингуэя?
Вещи должны быть охвачены действием. Плотность их существования определяется для читателя многочисленностью их реальных связей с персонажами. Достаточно заставить контрабандиста, таможенника, партизана лезть в горы или летчика перелететь через них. Из этих действий вдруг появится гора и прыгнет из вашей книги, как черт из бутылки. Также мир и человек раскрываются через действие. А все, что мы можем сейчас делать, сводится к одному: делать историю. Вот и получается, что мы должны оставить литературу описывающую и основать литературу действия.
Практика как активность в истории и воздействие на нее. Это есть синтез исторической относительности и морального и метафизического абсолюта с меняющимся враждебным и дружественным, страшным и смешным миром, который она нам дарит. Так можно сформулировать нашу тему. Я, конечно, далек от мысли, мы все избрали столь трудный путь. Среди нас, конечно, есть и такие, у кого в голове зреет очаровательный и печальный роман о любви. Но он никогда не увидит свет. Ничего не сделаешь. Приходится не эпоху подбирать себе, а выбирать в ней.
Рождающаяся сейчас литература о производстве не в силах забыть литературу о потреблении, ее противоположность. Она даже не должна стараться превзойти литературу потребления. Возможно, она даже никогда с нею не сравняется. Никто не считает, что это предел наших возможностей и в этом сущность писательского искусства. Может быть, она довольно скоро исчезнет. Поколение, идущее за нами, кажется, колеблется. Многие их романы напоминают стянутые у жизни печальные праздники, напоминающие возникавшие экспромтом вечеринки времен оккупации. На них молодые люди танцевали в промежутке между двумя тревогами и пили плохое вино под звуки довоенных пластинок. Тогда это будет несостоявшаяся революция. Даже если литературе созидания удастся закрепиться, все равно она не вечна. Она пройдет, как прошла описательная литература. Общество может опять обратиться к описательной литературе, и, может быть, история ближайших десятилетий покажет нам переходы от одной к другой. Это будет признаком того, что люди не воспользовались возможностью другой Революции, гораздо более важной. Только в социалистическом обществе литература осознает свою сущность и сможет реализовать синтез литературы созидающей и описательной, отрицания и созидания, "делать", "иметь" и "быть". Только там она сможет оправдать имя тотальной литературы. А пока мы должны возделывать свой сад, мы знаем, что делать.
Действительно, согласиться с тем, что литература – свобода, значит, заменить расточительство на раздачу даров. Пришлось бы отказаться от старой аристократической лжи наших предшественников и постараться включить в свои произведения демократический призыв во всему человечеству. Но это не все. Надо точно знать, кто нас читает и не превращает ли современная конъюнктура в утопии наше стремление писать для "конкретного мира".
Если бы мы смогли осуществить задуманное, писатель XX века встал бы между угнетенными и угнетающими классами. Именно там находились авторы XVIII века – между буржуазией и аристократией, а Ричард Райт стоял между черными и белыми. Писателя читали бы угнетенный и угнетатель, он отстаивал бы интересы угнетенного перед угнетателем, показал бы последнему его внешний и внутренний облик. Писатель осознал бы вместе с угнетенным и ради них само угнетение и помогал бы формированию созидательной и революционной идеологии.
К сожалению, все это только надежды. То, что было доступно во времена Прудона и Маркса, сейчас невозможно. Поэтому вернемся к своему первоначальному вопросу и без предубеждения поговорим о нашей публике.
В отношении публики положение писателя никогда не было столь парадоксальным. Создается впечатление, что читающая нас публика обладает самыми противоречивыми чертами. В актив себе мы можем поставить блестящую внешнюю сторону, широкие возможности, достаточно завидный образ жизни. А в пассиве – постепенное отмирание литературы. Нельзя сказать, что ей недостает талантов и доброй воли. Но она не находит применения себе в современном обществе. Когда мы осознаем важное значение созидания, когда понимаем, какою могла бы быть тотальная литература, наша публика вдруг растворяется и исчезает. Мы просто не знаем, для кого пишем.