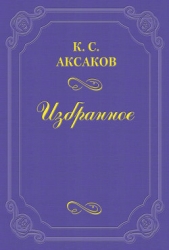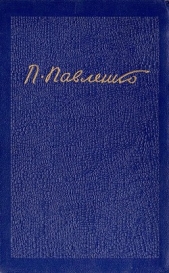Реализм Гоголя

Реализм Гоголя читать книгу онлайн
Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.
Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957). За нею должна была последовать работа о Льве Толстом.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Гоголь пророчествует о таком пробуждении нравственного чувства у его современников, — ибо речь идет о них, недостойных потомках Тараса, — потому хотя бы, что он сам уже ударил об полы руками и схватил себя за голову и проклял громко, на всю Россию, подлую жизнь, окружающую его. И заканчивает он монолог Тараса опять грозной инвективой современности на фоне славы свободного братства людей. «Пусть же знают они все [они, то есть потомки — для Тараса, — то есть современники Гоголя], что такое значит в русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, — так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!»
Таким образом, эпос «Тараса Бульбы» ясно повертывается укором современности, картина свободы — укором миру рабства. Поэтому такой же, в высоком смысле сатирический, характер приобретает и ряд прославлений Сечи и ее героев. Так, в своей знаменитой здравице Тарас говорит: «Да за одним уже разом выпьем и за Сечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурманству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы, один одного лучше, один одного краше».
Но ведь каждый читатель знал, и помнил, и не мог не вспомнить, читая эти слова, что не долго стояла Сечь, и что перестали выходить из нее герои, и что уничтожилась Сечь не сама собой, а потому, что ее разорила и уничтожила императорская власть, та самая, что уничтожила последние следы казачьей вольности, закрепостив украинский народ и загубив запорожцев.
Гоголь напоминал об этом «эпизоде» истории еще в «Ночи перед рождеством»; при этом он пишет там о наступлении правительства Екатерины на казачью вольницу, не раскрывая беглых, но достаточно определенных указаний, очевидно рассчитывая на знание читателем обстоятельств истории в данном вопросе; и, конечно, он не ошибался.
Такой же трагический характер — при мысли о современности — приобретает предсмертный возглас героя Кукубенка: «Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!..» Красуется ли Русь в глазах Гоголя — на этот вопрос нелегко ответить; но совершенно очевидно, что после Кукубенки живут вовсе не лучшие, чем он, а, наоборот, совсем дрянь-люди, Довгочхуны и иже с ними, и об этом-то и повествует повесть о ссоре двух Иванов, где все — наоборот по сравнению с изображением запорожцев в «Тарасе Бульбе».
Потому что если в Сечи — свобода, равенство и братство, то в Миргороде Довгочхуна — «поклонничество», гнусное царство бюрократии, кляузы суда, общество, деленное условными различиями мелких социальных делений, — и отсюда эгоизм, «мышиная натура» у людей, рожденных для высоких дел, и т. п. Здесь — не только не равенство, но на первом плане ерунда сословных предрассудков, так как очень важно (для Иванов!) то, что Иван Иванович — из духовного звания, а Иван Никифорович гордится исконным дворянством. И еще важнее во всей истории Иванов, что «гусак» применен не просто к человеку, но именно к дворянину, да еще такому, который весьма щепетилен в делах «чести» своего дворянства, и именно потому, может быть, что сам он — попович; обида, из-за которой весь сыр-бор загорелся, нанесена не человеку, а дворянину! «Оный дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун… назвал меня публично обидным и поносным для чести моей именем, а именно гусаком, [36] тогда как известно всему Миргородскому повету, что сим гнусным животным я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намерен. Доказательством же дворянского моего происхождения есть то…» и т. д. — и опять о «смертельной для моего чина и звания обиде»…
И если Тарас сетует и скорбит о том, что «свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке», так как, видимо, это дело для обычаев Сечи немыслимое и постыдное, — то в кругу двух Иванов дело обстоит совсем иначе — здесь Антон Прокофьевич променял тройку лошадей с бричкой «на скрыпку и дворовую девку, взявши придачи двадцатипятирублевую бумажку. Потом скрыпку Антон Прокофьевич продал, а девку променял за кисет сафьянный с золотом. И теперь у него кисет такой, какого ни у кого нет». И никто в мире Иванов не смущается таким положением вещей, или операциями Антона Прокофьевича, или равенством стоимости кисета и русской девушки (вот вам и «товарищество»).
Что же касается самого Антона Прокофьевича, то ведь он сам благодарил, когда его кто щелкнет слегка в нос, и редко когда проявлял досаду «даже тогда, когда клали ему на голову зажженную бумагу, чем особенно любили себя тешить судья и городничий». Ведь это звери, а не люди, и сделало их такими общество, построенное как многоэтажный дом, где внизу находится «девка», оцениваемая в кисет, а наверху, еще гораздо выше городничего и судьи, — Петербург, «значительные лица», высокие власти. Так уклад общества Сечи рождает Тараса, Остапа, Кукубенку, рождает людей, о которых Гоголь говорит высокими словами (например: «Крепкое слышалось в его теле, и рыцарские его качества уже приобрели широкую силу качеств льва» — об Остапе; глава пятая), а уклад жизни России и всей Европы 1830-х годов рождает Довгочхуна с головой редькой вверх, Антона Прокофьевича, Городничего и др., тоже образующих единство среды — но дурной среды.
Мир зла современной цивилизации, губящей и свободу и нравственное достоинство человека, противостоит эпическому миру «Тараса Бульбы» не только в соотнесенной с ним повести о ссоре двух Иванов. Этот мир зла представлен и в самом «Тарасе Бульбе» — в облике польского города. Это — городская и, конечно, современная цивилизация, хотя действие ведь и здесь отнесено в неопределенное прошлое XV–XVI–XVII веков.
В этой, весьма существенной, черте построения «Тараса Бульбы» лишний раз сказывается то обстоятельство, что Гоголь, рисуя Сечь и запорожцев, ставил себе задачи не исторические в собственном смысле, а скорей этические и даже публицистические. Рисуя свой идеал, он мог столкнуть это изображение с картиной, выражающей суть общества новой Европы (и России в том числе), сословной, холопской, подлой. Конечно, если бы его целью было изображать прошлое, каким оно было и в его отличиях от современности, он не смог бы, да и не хотел бы, противопоставлять его тут же, в повести о прошлом, теме современности, одевшейся в костюмы прошлого. Стоит также обратить внимание на то, что образ сословной искусственной цивилизации Гоголь нашел в картине польских «верхов» XV–XVII веков, то есть там же, где Пушкин в «Борисе Годунове». Может быть, именно от «Бориса Годунова», глубоко потрясшего Гоголя (вспомним его восторженный очерк «Борис Годунов»), идет это противопоставление старозаветной, более добротной, более народной Руси — изысканной искусственности культуры верхушечной Польши, представляющей верхушечную, оторванную от народа Европу. Однако и здесь Пушкин — историчнее, Гоголь — более публицистичен; к тому же, Гоголь очевидно включает и современную ему Россию в мысль о Европе, отвергаемой в образе польского города, и противопоставляет он не столько старинную Русь — Ренессансу Запада, сколько общество свободного народа — обществу сословного неравенства и «мышиных натур».
Существенно при этом то, что положительная оценка героев казаков и отрицательная — польских горожан и шляхты, окрашивающая изложение «Тараса Бульбы», менее всего имеет националистический смысл. Было бы грубой ошибкой полагать, что Гоголь прославляет украинцев за то, что они украинцы, и порицает поляков за то, что они — поляки. Ведь резко порицаемые Гоголем «герои» пошлости в повести о двух Иванах — тоже украинцы. А в «Тарасе Бульбе» вовсе не все поляки и не все польское осуждено. Наоборот — в воинских сценах польские воины включены в общий эпический тон изложения и выступают как доблестные витязи, достойные соперники запорожцев в лютой сече.
Так, в описании битвы под Дубном Гоголь любовно и в самых выспренних тонах героической кантилены в прозе воспевает польского рыцаря княжеского рода, исчисляет его неисчетные подвиги, а затем славит его последнюю схватку с Кукубенком: «… и достал его ружейною пулею Кукубенко. Вошла в спинные лопатки ему горячая пуля, и свалился он с коня. Но и тут не поддался лях, все еще силился нанести врагу удар, но ослабела упавшая вместе с саблею рука. А Кукубенко, взяв в обе руки свой тяжелый палаш, вогнал его ему в самые побледневшие уста. Вышиб два сахарные зуба палаш…» и т. д. — до «Ключом хлынула вверх алая, как надречная калина, высокая дворянская кровь, и выкрасила весь обшитый золотом желтый кафтан его». И сахарные зубы, и сравнение с калиной (и то и другое фольклорно-эпическое), и поэтические инверсии, и эпическая анафора «и», и весь склад речи овевают гибель ляха героическим ореолом; и все же Гоголь настойчиво подчеркивает сословное в ляхе: «знатнейший из панов», «древнего княжеского рода рыцарь», «и много уже показал боярской богатырской удали», «высокая дворянская кровь», и сюда же золотом обшитый кафтан. А ведь ни об одном из запорожцев с начала до конца повести ни слова какого бы то ни было сословного определения нет!