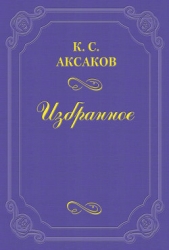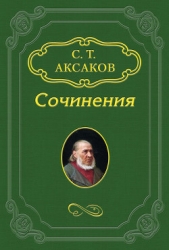В тени Гоголя

В тени Гоголя читать книгу онлайн
Книги о жизни и творчестве бывают разные. Назидательно-нравоучительные и пафосно-патетические, построенные по схеме «родился — учился — женился/не женился — умер». Или же такие, при чтении которых через пару абзацев начинаешь сомневаться, а на родном ли языке это писано, или это некое особое наречие, доступное только членам тайного братства литературоведов и филологов.
Так вот, «В тени Гоголя» совсем не такая книга. И начинается она, как и положено необычной книге, с эпилога. Собственно говоря, сразу с похорон. А в последней главе мёртвые воскресают и мы устремляемся «вперёд — к истокам!» И мы, вслед за автором, проходим путь, обратный тому, который предписан для биографии. От периода распада и превращения писателя в «живой труп» от литературы до искромётного начала, когда творчество ещё не представлялось Гоголю бременем, службой или же долгом перед народом и отечеством. Читая книгу Андрея Синявского, задумываешься о том, как писатель, стремясь к совершенству и пытаясь осмыслить каждый свой шаг, разложить свой дар на составные части, «разъяв гармонию», убивает и свой талант, и себя: «Иногда кажется, что Гоголь умирал всю свою жизнь, и это уже всем надоело. Он специализировался на этом занятии, и сравнение с погребёнными заживо вырывалось у него так часто, как если бы мысль о них неотступно его точила и мучила».
Отбросьте академические предрассудки, предполагающие, что от каждого чиха в отечественной литературе надо вдохновенно закатывать глаза и возьмитесь за «В тени Гоголя». Читайте с удовольствием, ведь главное преимущество этой книги — живой, не зашоренный взгляд на гоголевские тексты и его героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В самом деле, аргументация Гоголя довольно традиционна для нас, хоть и находится где-то в начале традиции, а мы… Бог весть, к какому времени, классу и состоянию отнесет себя каждый, в ком тоже есть этот комплекс, пусть не гоголевского, а всё ж родного, русского происхождения. Стоит вспомнить такие, не связанные между собою, фигуры, как Писарев, Толстой, Маяковский, не прибегая к более длинному списку литературных имен, чтобы заметить, что Гоголь не так уж одинок в своем иконоборчестве, в священной войне с эстетикой, поднятой под знаменем пользы. Несмотря на разность, а часто и полярность понятий о том, что полезно и во имя каких добродетелей следует пренебречь красотой (отчего нигилисту, допустим, не найти общего языка с православным, и толстовцу — с лефовцем), все они неожиданно сходятся на одном — на вопросе, на постановке вопроса в самой острой и угрожающей форме: что важнее — искусство или живое добро, и в чем заключается, следовательно, должность и польза художника?
Всюду писатель пишет; у нас он непременно сверх того еще что-то значит. И было бы даже странно, если б он просто писал и ничего больше: какой же он писатель? Вон Лев Толстой, сразу видно, — писатель: сам землю пахал.
Как развивает Гоголь эту русскую черту, придавая ей, очевидно, непоследнюю роль в своем нравственном обращении,
«у всех вообще, даже и у тех, которые едва слышат о писателях, живет уже какое-то убеждение, что писатель есть что-то высшее, что он непременно должен быть благороден, что ему многое неприлично, что он не должен и позволить себе того, что прощается другим» («О лиризме наших поэтов»).
Это-то убеждение в моральном превосходстве писателя и вытекающих отсюда обязанностях и должностях толкает некоторых, наиболее ревностных, авторов в атаки на свое ремесло, ставшее низким и тесным писательскому званию. Писатель в этом смысле — в крайнем своем выражении — это тот, кто готов оставить перо во исполнение большего. Так что гоголевские сомнения над тем художник он, или чиновник, или еще кто-нибудь, с постоянным нарушением своих вчерашних ответов, есть типично писательское, до корней волос писательское переживание, хотя оно и граничит с попыткой навсегда расстаться с искусством за его нравственной недостаточностью.
Есть что-то в нашей природе, что при всем несходстве в характерах, в литературных взглядах и вкусах нет-нет, а понуждает спросить: так что же все-таки выше — поэзия или дело, красота или польза, Аполлон Бельведерский или печной горшок, художник или сапожник? — и все эти образы пользы имеют на прицеле не какую-то убогую выгоду, но бескорыстное служение ближнему, который, покуда мы с вами тут Аполлонами упиваемся, может быть, без сапог ходит или где-то в пустыне Гоби от укуса змеи изнывает (по Гоголю — погибает в грехах). Ах, знаю-знаю, вы скажете, что художник тоже полезен, что и Аполлон иногда, случается… Ну а если без увиливаний: или — или? На одной стороне какая-то там красота, какое-то «доставление приятного занятия уму и вкусу», а на другой — польза во всем сиянии осязаемого добра, деятельной и благотворящей любви, спасающей и жизнь и, если угодно, душу несчастного брата, точнее же говоря — уже и не польза в ее плоском звучании, но само спасение взывающего к вам неустанно — доколе? и помоги! — человечества, вот как это называется полным титулом, — так как же, я вас спрашиваю, и считаю до трех!..
То-то же.
Стоит ли высмеивать или оплакивать Гоголя, если в нас самих прослеживается та же потребность. Если с детства, с самых лет еще непонимания, как первый оброк судьбе, закрадывается жажда полезного, причем в той именно должности, которая всех важнее и благодетельнее для человечества, где, как заявлено дяде, «работы будет более всего», будь то должность чиновника или чернорабочего, что зависит уже больше от возраста, эпохи и социальной закладки будущего писателя, который, возможно, и в писатели-то уставился под впечатлением чудной открытки, на которой Гоголь в припадке безумия сжигает «Мертвые Души», впервые загоревшись сознанием: «писатель» (смотрите-ка: пи-са-тель!), как чем-то драгоценным, мучительным, представшим в истинном качестве, в полной должности, в твердом уме, писателем, который не пишет, но сжигает на счастье потомству какие-то мертвые души, вместе с языками огня, темным логовом, истощенным лицом и сумасшедшей улыбочкой Гоголя говорящие нам, может быть, больше и лучше всего о писательстве как об искусе чернокнижия чиновника-чернорабочего, таком тяжелом и гибельном, что самые слезы Гения, рыдающего над его сумасшествием, оказываются как бы наградой за долготерпение Гоголя выстаивать все эти ночи на боевом посту, перед печкой, бессменным кочегаром, шахтером, замурованным для пользы в забое. Попробуйте ему объявить, что открытка не действительна и всё это пустое, детское воображение, что писатель — это просто профессия, в меру полезная, не очень нужная, не слишком опасная, не пыльная, так он, пожалуй, после этого на литературу и глядеть не захочет. Нет, скажет, это нечестно, писатель должен… Но вернемся к Гоголю.
«Соотечественники! ведь и у меня в жилах тоже русская кровь, как и у вас… Дайте мне почувствовать, что и мое поприще так же честно, как и вы все служите, что не пустой я какой-нибудь скоморох, созданный для потехи пустых людей, но честный чиновник великого Божьего государства…» («Развязка „Ревизора“», 1846 г.).
Повторяю: пусть не смущает вас устаревшее слово «чиновник». Оно у Гоголя такой же синоним для обозначения общей пользы, как любой «сапожник», «подвижник». «Божье государство» тоже легко заменить любым другим «производством», «светлым царством добра» или еще чем-нибудь хорошим. И всё станет понятно.
Непонятнее другое. Писатель настолько важное в нравственном содержании имя, что назвавшийся им всё время как будто оправдывается в том, что он писатель, словно это что-то сомнительное, недостоверное, и старается доказать на словах и на деле, что он такой же честный и законный человек на земле, как, скажем, врач, инженер, учитель, солдат, чиновник, работник, сеятель, коновод, водовоз — кто угодно, но только не писатель.
Это как в геометрии Лобачевского, где параллельные линии, говорят, пересекаются. Но такое пересечение непересекаемых параллелей позволяет наконец докопаться, чего же, собственно, алчет наша душа, требуя от козла молока, от художника — чиновника, от искусства — пользы. Душа (и это, сдается, посерьезнее исконной отзывчивости на чужие несчастья, или — жажды самопожертвования) ни о чем так не страждет, не плачет, как — о красоте.
С ума сойти! Не о пользе? Не о добре? И даже не о спасении человечества посредством полезных рецептов? Нет. О красоте. О той красоте, которая воскресит мир. Которая совершенна, всесильна и поэтому излучает, как солнце, — истину и добро, всё удостоверяя и ублаготворяя собою. И поэтому заурядная, бездейственная красота, превозносимая эстетиками, от которой ни тепло, ни холодно, которой не накормишь, не сошьешь сапоги, не излечишь от болезни и смерти, — эта неполная, недостаточная красота нам обидна и оскорбительна, заставляя в свой черед обижаться на писателей и художников, неспособных нас осчастливить в том размере, как этого ожидает душа, взыскующая красоты совершенной.
Что до Гоголя, то над ним в разгар морализаторства — может быть, больше, чем когда бы то ни было, — довлела вера в прекрасное. Она-то и понуждала его к отказу от литературного прошлого, не оправдавшего чрезмерных надежд. Но Гоголь не заглох, не охладел к писательству, — напротив, был им заворожен, околдован и ждал и жаждал слишком многого на этой шаткой стезе что никакое искусство, строго говоря, не в силах исполнить. Оттого он и предал былые забавы анафеме — не как монах, но как автор, уверовавший в свое амплуа, в верховную должность художника, от которого на потомство по прямому проводу нисходит живой огонь, отчего зависит, если хотите, даже исход истории. В этом плане преувеличенный страх за свой писательский грех свидетельствовал о необоримой гордыне того, чья неисправность сулила человечеству бедствия и кто, значит, властен был правильным поворотом пера избавить нас от грозящих напастей и потрясений.