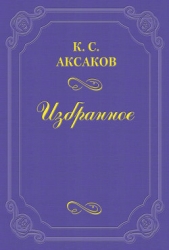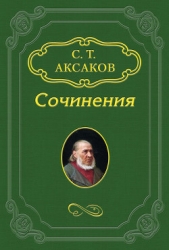В тени Гоголя

В тени Гоголя читать книгу онлайн
Книги о жизни и творчестве бывают разные. Назидательно-нравоучительные и пафосно-патетические, построенные по схеме «родился — учился — женился/не женился — умер». Или же такие, при чтении которых через пару абзацев начинаешь сомневаться, а на родном ли языке это писано, или это некое особое наречие, доступное только членам тайного братства литературоведов и филологов.
Так вот, «В тени Гоголя» совсем не такая книга. И начинается она, как и положено необычной книге, с эпилога. Собственно говоря, сразу с похорон. А в последней главе мёртвые воскресают и мы устремляемся «вперёд — к истокам!» И мы, вслед за автором, проходим путь, обратный тому, который предписан для биографии. От периода распада и превращения писателя в «живой труп» от литературы до искромётного начала, когда творчество ещё не представлялось Гоголю бременем, службой или же долгом перед народом и отечеством. Читая книгу Андрея Синявского, задумываешься о том, как писатель, стремясь к совершенству и пытаясь осмыслить каждый свой шаг, разложить свой дар на составные части, «разъяв гармонию», убивает и свой талант, и себя: «Иногда кажется, что Гоголь умирал всю свою жизнь, и это уже всем надоело. Он специализировался на этом занятии, и сравнение с погребёнными заживо вырывалось у него так часто, как если бы мысль о них неотступно его точила и мучила».
Отбросьте академические предрассудки, предполагающие, что от каждого чиха в отечественной литературе надо вдохновенно закатывать глаза и возьмитесь за «В тени Гоголя». Читайте с удовольствием, ведь главное преимущество этой книги — живой, не зашоренный взгляд на гоголевские тексты и его героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Странно, однако же, что он решился назвать самую колоссальную, многообещающую и самую внутреннюю, из души произведенную вещь — «Мертвыми Душами». Причем именно с ними, с мертвыми душами своей поэмы, он устанавливает душевную близость и на этом творческом опыте осознает и основывает прочное дело души. Строго говоря, среди гоголевских героев персонажи «Мертвых Душ» менее прочих несут видимый отпечаток какого-то душевного обстоятельства автора и менее всего обнаруживают какое-то родственное тяготение к нему. Правы читатели Гоголя, смеющиеся над ними без понимания, что смеются над автором. Никто, читая «Мертвые Души», этой тайной связи непосредственно не ощущает. Один Гоголь, по-видимому, ее чувствовал и понимал. Многие персонажи других его сочинений гораздо более душевны и близки ему внутренне, если судить объективно, исходя из ткани его созданий. В чем же дело, зачем неодушевленные твари его последней поэмы оказались, по его словам, ему особенно близкими, так что именно их и никого другого он поставил в пример своей душевной истории?
Может быть, эта странность отчасти объясняется тем, что только в работе над первым томом поэмы начался у Гоголя процесс рационального осознания, что и как производит он своим пером. До этого он творил неосознанно. Осознание пришло результатом распада. Оттого, что, работая над «Мертвыми Душами», Гоголь уже разлагался, все рычаги и колеса его механизма, работающего на износ, открылись и представились ему с необыкновенной ясностью. Он и раньше выделял миазмы и добрые душевные качества, оказывая посильную помощь своим героям, своей душе и читателям. Он и раньше бывал практичен, деятелен, благоразумен, религиозен, честолюбив и сгорал по идеалу, только всё это протекало в нем в нормальном, беспорядочном образе живого творческого процесса, не ведающего о своем устройстве и не озабоченного по этому поводу. Теперь, в работе над томом, у Гоголя открылись глаза на себя — он понял, из чего он состоит, что куда подключает и выделяет из своих богатейших бассейнов, он разложился на художника, контролера, христианина, человека, деятеля и, обнаружив эти составные души, начал из них прочно строить и строил до тех пор, пока всё это окончательно в нем не разъехалось. Потому-то весь внутренний состав Гоголя, анатомию его личности, удобнее всего изучать на этом заключительном периоде его творчества, когда процесс разложения и осознания позволяет увидеть его устройство еще в живом и работающем, но в достаточно уже расчлененном виде.
Нет надобности забираться в выставленные им напоказ душевные тайники и рассуждать, имел ли он на самом деле видения, или то были какие-то болезненные галлюцинации. Не исключено, что свыше открывшиеся ему дары и перспективы являлись достижением расширившегося безмерно сознания, увидевшего как бы сверху весь план души, всю композицию жизни автора, рискнувшего сперва отдельным друзьям, а затем всему свету поведать, для чего он создан и в каком порядке надлежит ему осуществлять свои программы и замыслы. Это высшее знание о себе, вместе с приливом энергии, рождало ощущение неестественной власти и заставляло Гоголя без обмана, даже многое утаивая от читателей, рисовать великолепные планы и контуры сооружений, которые сложатся, как скоро он наладит свою рассчитанную машину и приведет в искомую стройность все наличные сочленения. И эта же полная и счастливая осмысленность действий предвещала катастрофу. Гоголь — как та сороконожка, которая разучилась ходить, едва взялась рассуждать и обдумывать, с какой ноги полагается ей начинать и в каком порядке следовать.
«Пора уже мне творить с большим размышлением», — извещал Гоголь Погодина перед отъездом за границу (18 мая 1836 г.), и с этого времени «Мертвые Души» постепенно в его уме начинают рисоваться как труд, обдуманный во всех отношениях, как «первая порядочная вещь», подлежащая расчету, контролю, планированию и устроению. Если Гоголь когда и сходил с ума, то выражалось это в рассудочности всех его выводов и доводов, в мании логически мыслить и всё в своем творчестве производить обдуманно, «основываясь на разуменье самого себя, на устройстве головы своей», как заявлял он с гордостью С. П. Шевыреву (28 февраля 1843 года). Словно ясное знание собственного устройства служило ему гарантией успеха во всех предприятиях.
Прежние сочинения не удовлетворяли его потому уже, что создавались вне плана и порядка, безотчетно и бесцельно. Раньше, по его словам, он писал «как попало, куда ни поведет перо мое», «вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому из этого выйдет какая польза». Так же, по сути, был написан и «Ревизор». Но ему в подмогу новым числом был предпринят «Театральный разъезд» (первые наброски — 1836 г., завершен в 1842 г.) — удивительная попытка рационального доказательства собственной пьесы, падающая как раз на период напряженного обдумывания будущего пути и состоящая в последовательном, со всех сторон, обсуждении и осмыслении комедии — с народной, государственной, нравственной, художественной точек зрения. В «Театральном разъезде» ясно выступает процесс препарирования и расчленения души, знаменательный для автора писавшихся тогда «Мертвых Душ». По царящему здесь рассудительному подходу к вещам и намерению всё увязать и обосновать, эта защитная композиция стоит уже ближе к «Переписке с друзьями», чем к предмету своего исследования — «Ревизору». Ведь это же надо было автору пойти на такую уловку, как спрятаться в театральных сенях после представления комедии, с тем чтобы, подслушав все толки и мнения публики на свой счет, собрать их в виде отдельного здравомыслящего ответа! Только Гоголь, притом уже эпохи распада, мог придумать подобное спасательное мероприятие с целью уяснить в голове свое творение и согласовать голоса, которые в нем самом уже боролись и спорили, возвещая повсеместный разъезд в его личности и судьбе…
Замышленные и начатые заблаговременно, до появления «Ревизора», «Мертвые Души» еще несли на себе инерцию свободного, непреднамеренного движения. На новом этапе, однако, по мере осознания беспрецедентной важности шага, наталкивающего автора на выспренние мысли о собственном призвании и необходимости творить обдуманно и фундаментально, подсказанный опять-таки Пушкиным анекдотический чисто сюжет «Мертвых Душ» становится им тесен. Поэма перерастает себя, и пушкинский снисходительный взгляд на искусство, которое само себе может служить оправданием, отбрасывается Гоголем в поисках более разумной и целесообразной основательности.
«Пушкин находил, что сюжет „Мертвых Душ“ хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров. Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполненьем которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то характер? что должно выразить собою такое-то явление? Спрашивается: что нужно делать, когда приходят такие вопросы? Прогонять их? Я пробовал, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности в том и другом герое, я не мог почувствовать и любви к делу изобразить его. Напротив, я чувствовал что-то вроде отвращенья: всё у меня выходило натянуто, насильно и даже то, над чем я смеялся, выходило печально.
Я увидел ясно, что больше не могу писать без плана, вполне определенного и ясного, что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочиненья своего его существенную полезность и необходимость…» («Авторская Исповедь», 1847 г.).
Многолетние труды и усилия сведены здесь в несколько фраз и представлены в обобщенном, суммированном виде. В живой истории всё происходило, вероятно, куда более сложно и длительно, и две стихии, столкнувшиеся в «Мертвых Душах» — идущая от прежнего, легкомысленного сочинительства и от нового, осознанного и рассчитанного, способа работы, переплетались и спорили в Гоголе до завершения первого тома, когда планы произведения в целом и вспомогательных путей к нему окончательно прояснились, а писатель остался без сил претворить их в жизнь. Неотразимые вопросы, возникшие в процессе сочинения «Мертвых Душ», повлекли оттяжки, затруднения и, в конце концов, остановку работы. Последняя совпала с творческим оскудением, хотя сам Гоголь склонен был принимать ее за предусмотренный свыше, необходимый трамплин, приведший осознанно к Богу, к прочному делу души и жизни, откуда его творчество, набравшись разума и добра, поднимется на недоступную обычной литературе вершину. Косвенно, однако, в его трезвом самоанализе проскальзывает признание, что именно проснувшийся в нем и как бы отделившийся, возвысившийся над ходом поэмы рассудок положил предел искусству и, как показало будущее, стал свидетельством и необратимой причиной приближавшегося конца. «Мертвые Души», породив вопросы о цели и плане их написания, совершили самоубийственный акт. Отныне наибольшее, что мог делать Гоголь для своей поэмы, состояло в том, чтобы жечь без сожаления ее новые, обесценившиеся главы. Писательская машина перешла на режим безнадежного буксования.