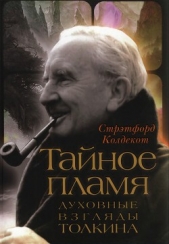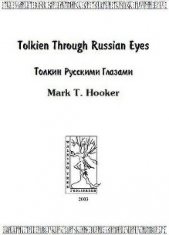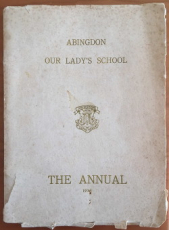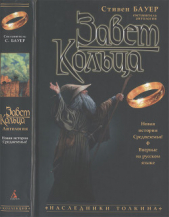Дорога в Средьземелье
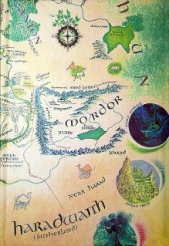
Дорога в Средьземелье читать книгу онлайн
Фундаментальное исследование творческого мира Дж. Р.Р. Толкина, предпринятое его другом и преемником на кафедре английской литературы. «Властелин Колец» как философски–лингвистическая эпопея. Порождающая поэтика в качестве магического кольца. Языковые и литературные корни.
Подлинная энциклопедия Дж. Р. Толкина и толкинизма.
Впервые на русском языке.
От переводчицы «Властелина Колец» Марии Каменкович.
Для продвинутого и отчасти задвинутого читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако в цепи есть еще одно звено, с которого, собственно, эта цепь и начинается: дракон Смауг. Его имя представляет собой еще одно «реконструированное» слово: это форма прошедшего времени, *smaug,от германского глагола *smugan — «протискиваться в нору» (как объяснил Толкин в интервью «Обзерверу» (153)). Кроме того, это — древнескандинавский эквивалент древнеанглийского слова, входившего в древнеанглийское заклинание wið sméogan wyrme — «от червя проникающего». Но у этого слова есть и другое значение — более абстрактное: древнеанглийское sméaganозначает также «вникать», а в форме прилагательного оно означает «искушенный, искусный». Так что вполне естественно, что Смауг, по сравнению с остальными персонажами «Хоббита», наиболее хитроумен.
Разговор Бильбо и Смауга поистине блистателен. Как и многое в книге, он написан с оглядкой на эддический «образец» — на песнь «Речи Фафнира». Умирая от раны, которую нанес ему Сигурд, дракон Фафнир успевает побеседовать со своим убийцей. Как и Бильбо, Сигурд отказывается сообщить дракону свое имя и отделывается загадками (опасаясь, как бы дракон его не проклял). Как и Смауг, Фафнир пытается посеять раздор между своим собеседником и его товарищами. Между прочим, дракон говорит, что золото всегда пробуждает в человеке жадность. Два сюжета существенно расходятся, только когда Сигурд съедает драконье сердце. Благодаря этому он начинает понимать язык птиц (еще один важный для «Хоббита» мотив). И все же в «Речах Фафнира» Толкину было почти нечем поживиться. Беседа Фафнира и Сигурда сводится к простому обмену информацией; в ней, как сказал Толкин о «Беовульфе», слишком много draconitasи маловато draco [179], слишком мало «реального ящера с его животной жизнью и собственным специфическим разумом» [180]. Толкин поставил перед собой задачу исправить это упущение и сделал это опять–таки с помощью анахронизмов.
Самое примечательное в Смауге — странная, витиеватая манера изъясняться. Собственно говоря, этот стиль очень напоминает агрессивно–вежливую изысканность, характерную для представителей британского «высшего общества». Об этом говорят, например, раздраженность и авторитетный тон в голосе Смауга, хотя в данном случае уместнее была бы формальная вежливость, разбавленная толикой неуверенности. «Для вора и лжеца у тебя слишком хорошие манеры» — с такими словами обращается дракон к Бильбо при первой их встрече (иронизирует он или нет, неизвестно). «…Оказывается, ты знаешь мое имя, зато я вот не припоминаю твоего запаха! Можно ли спросить, кто ты и откуда сюда явился?» В таком тоне какой–нибудь полковник–аристократ мог бы отвечать безвестному попутчику, который попытался бы завести с ним беседу в вагоне железной дороги: простите, ведь мы, кажется, не представлены? В то же время не дает о себе забыть и «звериная» природа ящера — она проявляет себя прежде всего в похвальбе: «Кому как не мне знать запах и вкус гномов!» — а позже в том, как дракон, желая показать Бильбо свое бронированное брюхо, перекатывается с живота на бок, подобно гигантскому спаниелю, очень собой довольный, «что с его стороны было уже просто глупо». В процессе чтения то и дело натыкаешься на живейшие парадоксы, каких Древний мир, ни слухом, ни духом не ведавший о научном рационализме, породить никак не мог бы: например, у Смауга есть крылья, но есть и реальная тяжесть, — об этом нам напоминается, когда дракон покидает логово: он «бесшумно взмыл в воздух и полетел по ветру во тьму, тяжело и медленно, словно чудовищная ворона» (154). В холодном чреве этой рептилии таится огонь, который посверкивает у дракона из–под век, когда тот притворяется спящим, и вспыхивает у него в глазах «подобно алой молнии», когда он забавляется или чем–то заинтересован. Парадоксы, переходы от животного начала к разумному, контраст между скрипуче–церемонной вежливостью в речах Смауга и немудрящей радостью, которую он получает, убивая, — все это привносит в характер Смауга что–то особенно злобное и порочное. Эта «порочность» и есть главная характеристика дракона. Автор, пользуясь современным языком, говорит о ней так: «…Смауг просто подавил его [Бильбо] своей личностью».
Все это придает правдоподобия тем сведениям о драконах вообще, которыми нас то и дело потчует рассказчик, например: «Именно такое действие и оказывают разговоры с драконами», — т. е. таковы вообще «драконьи чары», под действием которых хоббита «охватывало безотчетное желание выйти из туннеля, снять кольцо и выложить все начистоту». Ни в одном из древних текстов подобного мотива нет, но, доверительно вливая яд в уши Бильбо («. ..ядам тебе один добрый совет… наверное, тебе хорошо заплатили за вчерашнюю чашу… На них это похоже… А ты никогда не задумывался над тем, что… А прикинул ли ты, стоит ли игра свеч?..»), Смауг прикидывается все более и более «опытным» и «бывалым», и неудивительно, что Бильбо, сам того не желая, незаметно оказывается у противоположного полюса, где приютились «молодость и неопытность». В результате дракон оказывает на Бильбо воздействие одновременно магическое («чара») и нравственное («подавляющее влияние сильной личности»), что заставляет нас вспомнить о «драконьей болезни», которую Смауг и его сокровища, по–видимому, генерируют совместно — как сами по себе, так и с помощью магии. Характер Смауга составляет неотъемлемую часть Zusammenhang'а, общей взаимозависимости. Казалось бы, что может быть архаичнее или фантастичнее возлежащего на золоте дракона? Но речи этого дракона звучат так знакомо, что для него без труда отыскивается место в общем «хороводе жадности». Возникает вероятность, пусть смутная, что драконьи мотивы могут, на свой особенный лад, быть сродни человеческим. Не исключено даже, что эти мотивы сыграли не последнюю роль в реальной истории человечества.
На следующем этапе «Хоббит» неожиданно предстает романом á these (155), даже аллегорией, где Бильбо Бэггинс, в роли Современного Человека, пускается в свой «Путь Пилигрима» [181](или «Путь Пилигрима; туда и обратно»), цель которого — Страна Фантазия. И вот оказывается, что он проделал свой путь только ради того, чтобы в самом сердце мира чудовищ наткнуться на воплощение худших сторон своей собственной природы, на воплощение жадности или, может быть, самого Капитализма, который держится за свое золото как свирепая мисс Хэвишем [182]. Мораль была бы при этом такой — дескать, от «буржуа» всегда один шаг до грабителя, или что–нибудь в том же роде. Однако, хотя «Хоббит» и не претендует на аллегоричность, все же ближе к концу в нем нет–нет да и проглянет тот самый «символизм в широком смысле слова», который Толкин усматривал в «Беовульфе» и который более широко и отчетливо представлен во «Властелине Колец». В последней сцене «Хоббита», в беседе Гэндальфа, Бильбо и Балина, автор позволяет волшебнику слегка проговориться. Гэндальф говорит, что метафоры могут «на свой лад» содержать в себе истину, что вымысел и реальность отличаются не по глубинной сути, а по способу представления (выражения) этой сути [183]. Логика его слов такова: если реальность, воспетая в старых песнях, могла содержать в себе такую прозу, как хоббит Бильбо Бэггинс, то, может быть, и прозаические события сегодняшнего дня найдут себе когда–нибудь место в песнях… Отсюда вывод: человеческая — или гномо–хоббито–человеческая — природа не оторвана от реальности и внутренне непротиворечива.
Но дальше намека дело не идет, и можно легко понять почему. Когда читаешь «Хоббита», постепенно возникает стойкое впечатление, что Толкин в работе над текстом исходил не из идей, а из слов и имен, из совпадений и противоречий народных сказок, из таких частностей, как неудовлетворенность Толкина «Речами Фафнира» (отсюда Смауг), из размышлений о состязании в загадках из «Речей Вафтруднира» [184]или «Саги о короле Хейдреке». (Неизвестным нам путем эти размышления привели к возникновению Голлума.) Я не могу не предположить, что в то время для Толкина в творческом плане важнее всего были два схожих между собой отрывка из «Беовульфа» и «Сэра Гавэйна». В обоих отрывках авторы как бы намекают на то, что за пределами повествования остаются еще целые миры, о которых им теперь попросту недосуг поведать. Древнеанглийский поэт ссылается на «далекие путешествия», которые совершал Зигмунд–драконоубийца, на «злые дела и битвы, о которых дети человеческие» (возможно, в отличие от потомков чудовищ) «никогда ничего так и не узнали». Его средневековый последователь, автор поэмы «Сэр Гавэйн и Зеленый Рыцарь», шесть столетий спустя замечает, что сэр Гавэйн никогда не добрался бы и до начала своего Приключения, «не будь он крепок, как сталь, неутомим и стоек в вере», — так часто приходилось ему сталкиваться на своем пути с ящерами, волками, лесными троллями и «ограми, которые преследовали его, сойдя с высоких пустошей». Вполне в этом духе, сообщается нам, было и обратное путешествие Бильбо: «Много трудностей пришлось ему преодолеть и пережить много приключений, прежде чем он добрался до дому», поскольку «Дикие Земли — они и есть Дикие Земли; в те дни, помимо гоблинов, там водились и другие опасные твари». Некоторые из этих опасностей читатель краем глаза уже приметил — неизвестно чьи «глаза в темноте», звери, чьи уши «при известии о гибели Смауга вставали торчком». Но сюжет «Хоббита» — это по самой сути своей рассказ о путешествии через «мрачные и опасные места», причем эпизоды с Голлумом, волками, Беорном и пауками связаны между собой не больше, чем сами эти персонажи. По–настоящему кончается «Хоббит» не сценой хаоса и разгрома в норе Бильбо (156), а сценой, в которой, незадолго перед возвращением домой, Бильбо с сожалением прощается с Дикими Землями, а архаический Тукк, проснувшийся было в его душе, снова уступает место «эдвардианскому» [185]Бэггинсу.