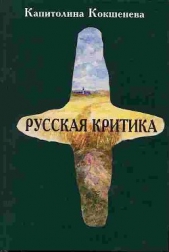Революция низких смыслов

Революция низких смыслов читать книгу онлайн
Книга Капитолины Кокшеневой результат более чем десятилетних размышлений о том, почему нормальному человеку скучно читать современную литературу. Размышлений, ценных не столько анализом каких-то конкретных произведений и театральных постановок конца ХХ века, сколько выходом на серьезные онтологические проблемы развития русской культуры. Размышления Кокшеневой интересны и тем, что они включают в себя религиозную оценку новой литературы и драматургии, и тем, что эта религиозность даже в самых неблагопристойных ситуациях звучит не как приговор, но как сочувствие. Это не просто «по-русски», это по-человечески, — жалеть Виктюка, поставившего «Спортивные сцены» Радзинского еще в конце 80-х. Сочувствовать не греху, но грешному человеку, убожеству и уродству его внутреннего мира. И одновременно переживать за изуродованные и обесчещенные этим человеком женские образы (статья «О женщине»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отличные стилисты — Антон Уткин (автор «Нового мира») и Георгий Давыдов (автор «Москвы) — похожи, пожалуй тем, что классическая традиция для них не область книжной мудрости, не склад отчеканенных форм, а живой канон, в котором, словно в колодце, можно всегда (правда с разной степенью успеха) «зачерпнуть» живой воды. В «Хороводе» Уткина и «Новике» Давыдова все же были уловлены в авторские сети легкое дуновение, простота и просторность интонации русской классической прозы.
Иногда кажется, что самые неидеологические произведения в современной литературе и оказываются на самом деле самыми идеологическими, если под последней понимать определенным образом организованную связь человека с обществом. В область Идеологии в литературе за последние годы у нас входило: отношение к «совку», советской истории, ее вождям и подвигам, отношение к Великой Отечественной Войне и цене ее победы, растиражированность в литературе всяких степеней индивидуализма, осмеяние идеи коллективности и всеобщности, описание психофизических отклонений личности как проявление свобод, как и сама дискуссия о свободе и несвободе (с выбором аргументов в исторической жизни России), а также явное нежелание актуализировать национальные, религиозно- философские смыслы в современной культуре по той простой причине, что тут нужен как титанический труд (а писатель не хочет, или не может этого, ибо проще писать «от себя»), так и некоторая смелость — пойти на конфликт с современностью и духом века сего. Несмотря на коллосальный объем публицистических материалов на эти темы, несмотря на необыкновенно мощное переиздание лучшего в отечественном политическом и религиозно-философском наследии, писателем все это богатство практически не затронуто, не вошло оно в плоть литературы — ни патриотической (правой и левой), ни либеральной (осваивавшей перво-наперво интеллектуальное поле, штампы и конструкции мысли современной западной культурологии). Для меня, например, романом русской идеологии без всякого «сознательного» (когда видны швы и прямо-публицистически высказаны мысли) выстраивания идеологии является «Возвращение в дождь» Михаила Лайкова, а еще много раньше «Мой маленький Париж» Виктора Лихоносова, «Год чуда и печали» Леонида Бородина, один из последних рассказов Валентина Распутина «Изба». Несмотря на повторение темы, образов, отвлеченности от сегодняшнего дня, в «Избе» главное именно в русской вязи чувств и русском строения мысли: «Тут, в Агафьиной ограде, было над чем подумать, отсюда могло показаться, что изнашивается весь мир — таким он смотрелся усталым, такой вытершейся была даже и радость его. Здесь можно было и вволюшку повздыхать и столько здесь скопилось невыразимых воздыханий, что тучки на небе задерживались над этим местом и полнились ими, унося с собою жатву людских сердец». В лучших современных романах есть именно эта подлинная (без имитаций, без извилистых и хитроумных рациональных схем, без декоративной лживости) религиозная красота, — эта легкая тучка, уносящая жатву людских сердец, эта «высшая благодарность», о которой говорит, например, Леонид Бородин в романе «Трики или хроника злобы дней».
Новая религиозность — это один из «восстановленных смыслов» современной литературы, это один из главных признаков перемены умов. Однако это восстановление стилистически (а это значит и глубоко- сокровенно, ибо в стиле — интимное, сущностное себя проявляет откровеннее даже, чем в словесных формулировках) происходит часто в противоположных направлениях. Расхождение в противоположные стороны из одной точки, наверное, объяснить можно, ибо вера героя воспринимается как спасательный круг в хаосе современной жизни. Все, что спрячет, сокроет один писатель — другой выделит, откровенно подчеркнет, выстроит схему. Если для Владимира Крупина православная обрядность определительна, прописывается как данность, в которую герою остается лишь включиться, войти (дальше его уже «понесет течением», как в «Крестном ходе», «Прощай России…»), то у Распутина в «Избе» нет никаких религиозных размышлений. Религиозное ощущение (пусть оно сегодня у многих другое) потаенно, и в то же время, во всем сияет, во всем проявлено — в «целебной печале», в плодотворности «убогой (у Бога — К.К.) жизни», сокрывающей такое «упорство», «такую выносливость», «что нет им никакой меры». Бородинские же слова в «Триках…» сегодня можно воспринимать вообще как отповедь всякой идейной религиозности: «Вся жизнь определялась идейностью, то есть разумом. И только там, в камере владимирской тюрьмы, когда однажды истовая молитва его пробила все бетонные потолки и сквозь брешь пришло и коснулось сердца дивное Его присутствие — тогда только догадался Крутов (главный герой — К.К.), сколь кощунственно, потому что почти корыстно, идейное отношение к религии, к вере, к Богу».
Образчиков такого «идейного отношения к Богу» в современной литературе накопилось изрядное количество. Один из них явлен в романе Владимира Шарова «Старая девочка» («Знамя», № 8, 9, 1998). Это сочинение стилистически можно поименовать «романом усмешки», так как автор ни во что описываемое всерьез не верит, а его презентация советской истории и человека в ней проходит под знаком изобретательной мифической карикатуры. Роман «толстеет», но движения и развития не знает — истории нагромождаются друг на друга, однако от данного систематически употребляемого приема ничего, собственно, не проясняется, ибо все сразу, с первых страниц, достаточно ясно.
Ясно, что романтическая и восторженная коммунистка Вера Радостина (дочь дьякона до революции) в 1937 году, после расстрела мужа Иосифа Берга попытается преодолеть судьбу. С одной стороны, она сочиняет политические сказки, в которых реальные фигуры помещаются в контекст революционных мифов, с другой — начинает проживать свою жизнь вспять, так как с помощью личных (аккуратно, день за днем ведущихся) дневников обретает «дар» ухода в прошлое. Именно эта ее способность и станет стержневой во всех открывающихся конфликтах романного пространства. Все силы НКВД будут брошены на изучение этой ее способности, так как путь сей опасен для страны: что если все вдруг возьмут и кинутся за ней назад, в прошлое? Идея ухода из истории, из реальной советской жизни, кстати, присутствует и в новом романе Светланы Василенко «Дурочка» («Новый мир», № 11, 1998). В нем целое астраханское село (время то же — 30-е годы) «прикинулось глухонемым». Жил в селе этом ссыльный «народ- враг «, народ без языка. И ушел он от советской реальности в немоту; ушел, чтобы сохраниться. В политических сказках Веры Шаровым тоже дан некий ключ к самосохранению: как надо воспринимать, например, Ленина (а потом и Сталина), чтобы попросту выжить. Ленин у героини — законный наследник российского престола (наследует Александру III в качестве сына, коварно подмененного другим). Если принять эту кощунственную, но и «красивую» мысль, то всем станет понятно, что Ленин, делая революцию, не узурпировал власть (не «похитил чужое»), а всего лишь взял «свое законное». Сталин — первейшее лицо романа (Вера в молодости входила в его интимный кружок) по Вериному рецепту должен восприниматься «как бог, живой бог. Спасительно в Сталина верить… и поминать за каждой трапезой…».
Сталин же в Верином разматывании жизни назад видел, в отличие от прочих, даже тактические преимущества: Германия на нас нападет, а мы все тихо, без слов, уходим в прошлое. Немцы тут же, естественно, отступают, если не бегут. Впрочем, есть у автора и другое объяснение милости вождя к «старой девочке»: «Сталин и вправду давно ее хотел…». Прием сей — «доведения всего до пароксизма», до смысловой дури, это холодное конструирование сознания героев выглядит вместе с тем, как и положено в насмешливых романах, удивительно риторично. Всюду и сплошь цветут ложные цветы, а авторская диагностика советскому времени трафаретна и заезжена. Любой стиль в конце концов (от частого употребления) превращается в риторику, что успешно и продемонстрировал В.Шаров. Сталин-злодей представлен по-домашнему, Ежов — этаким мечтателем (идеологом «воскрешения мертвых»), ради обустройства будущего рая тотально расчищающим человеческое поле от несовершенного людского материала. И это нечто новое и живое? В данном случае невелика «перемена умов» в сравнении с первыми перестроечными мыслями. Подчеркну, что не идеологический спор тут вести следует (с оценками Сталина и Ежова давно все ясно), но говорить стоит о художественном упадничестве, коли уж Шарову понадобились такие избитые сентенции: «он, Сталин, вообще-то несколько лет учился в семинарии и хорошо знает, что Бог един, один-единственный, и Он всеблаг, а сатана — не более чем падший ангел…» или, например, размышления Оси Берга: «все беды человека происходят оттого, что религии объяснили ему, что он личность и тем самым способен и должен один на один разговаривать с Богом… На самом деле человек никакой не индивидуум…, а полностью взаимозависимое сообщество… природно замечательно организованный коллектив: на этом и надо построить всю пропаганду». Тут важно подчеркнуть то обстоятельство, что именно эта самая «коллективная безличность» перелилась в авторскую стилистическую безличность. Предмет изображения — человек (как весь калейдоскоп опрашиваемых НКВД по делу Веры из числа тех, людей из дневника, кто ее любил, так и Сталин, Ежов, Алиллуева и прочие) — не становится субъектом, а все «новые смыслы» шаровской прозы попросту пустотелы и стандартны. Из под крыла идеи «жизни вспять» не выросло ничего ценного, ибо это «возвращение» остается с вопросом: Куда? И нет на него ответа. Будущее, как и прошлое — призрачно и мифично; и они, по сути, даже не противопоставлены. Все остается лишь потоком событий.