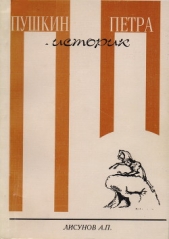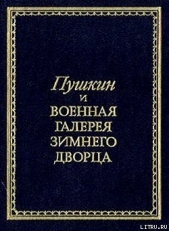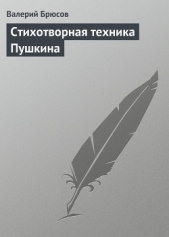Беспощадный Пушкин

Беспощадный Пушкин читать книгу онлайн
В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Очевидно, что при выборе решающую роль играли два критерия: популярность арии и ее исполнимость на скрипке соло. Однако, не нанося никакого ущерба представлениям о высокой музыкальности Пушкина, можно предположить, что, упоминая об арии из «Дон Жуана», он менее всего был озабочен проблемами инструментоведения. Мысль о неисполнимости той или иной арии на скрипке могла просто не приходить поэту в голову. Что же касается популярности, то и тут, думается, речь должна идти не о вообще популярной арии, но о такой популярной арии, которая чем–либо могла особенно заинтересовать лично его, Пушкина.
Если поставить вопрос в таком плане, то, видимо, из всех арий моцартовского «Дон Жуана» первым претендентом на место, указанное в ремарке, окажется знаменитая ария Лепорелло «Madamina, il catalogo e` questo», так называемая «ария списка», как бы ни было трудно представить ее звучание в сольном скрипичном исполнении.
Как известно, след, оставленный этой арией в биографии Пушкина, достаточно заметен: напомним о «донжуанском списке».
Но, пожалуй, самое любопытное — это то, что в конце «арии списка» звучат слова, весьма близкие к арии Керубино «Voi che sapete» (дословно: «Вы, что знаете…» — начало фразы «Вы, знающие, что такое любовь»). Представив доне Эльвире список побед своего хозяина и исчерпывающе осветив универсальность его вкусов, Лепорелло не без издевательского сочувствия заключает: «Voi sapete quel che fa`” (дословно: «Вы знаете то, что [он] делает»).
Есть ряд оснований полагать, что из всей арии Лепорелло именно эти слова могли остаться в памяти Пушкина. Слова «Voi sapete quel che fa`” на коротком отрезке звучания (24 такта) повторяются шесть раз. Подчеркнем, что речь идет о конце арии и о кадансирующих построениях, т. е. о моментах, которые, по данным исследователей музыкального восприятия, наиболее прочно, даже по сравнению с начальными фрагментами, удерживаются слуховой памятью.
Если Пушкин, вписывая ремарку об арии из «Дон Жуана», действительно имел в виду арию Лепорелло, то становится ясным, почему он не уточнил, какую именно арию из «Дон Жуана» играет слепой скрипач. Написав «voi che sapete» вместо «voi sapete quel che fa`”, он мог думать, что ария уже указана. [Дело в том, что чуть раньше у Каца дебатировалось, ошибся ли Пушкин, написав «voi che sapete» — начало ариетты Керубино из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро»: «если верить Т. Н. Ливановой, первое документально подтвержденное исполнение «Свадьбы Фигаро» в России состоялось лишь в сезоне 1836–37 г.» — или не ошибся, учитывая, что «указания на более ранние спектакли, на которых мог бывать Пушкин, основаны на косвенных данных», а также учитывая, что Пушкин о «Свадьбе Фигаро» «мог иметь смутное представление по отдельным номерам, слышанным в домашних концертах (наиболее вероятно — в доме М. Ю. Виельгорского)». А при такой неопределенности Кац продолжает.]
Если же ошибки не было и пушкинский Моцарт слушал в трактире мелодию из «Свадьбы Фигаро», то также не исключено, что близость текстов начала канцоны Керубино и конца арии Лепорелло могла быть подсознательным стимулом к выбору именно этих номеров.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
А если обратить внимание, что «ария списка» и ассоциации с ариеттой одинаковы в смысле выражения крайнего индивидуалистического идеала, то я от своей версии (мол, «Чтобы кипела кровь горячее…») отказываюсь, ибо ничего не проигрываю по сути. Тем более, что Кац кончает такими словами:
«…как бы ни было интересно решение вопроса о пушкинской ошибке, гораздо существеннее то, что данная неясность проливает свет на восприятие Пушкиным творчества Моцарта в целом. Известная небрежность Пушкина в упоминании моцартовских текстов (какую арию из «Дон Жуана» играет скрипач, какой отрывок из «Реквиема» и какую фортепьянную пьесу играет Моцарт?) говорит, на наш взгляд, не о поверхностности, но об отношении к моцартовскому творчеству как к целостному, не дифференцирующемуся внутри себя явлению. Пушкину важна прежде всего та совокупность эстетических признаков, которая определяется именем Моцарт. Творчество Моцарта для Пушкина — не столько корпус текстов, сколько единый текст, фрагменты которого — в принципе — равнозначны. Любопытно, что именно таким отношением к собственному творчеству наделяет Пушкин самого Моцарта, заставляя того воскликнуть: «Из Моцарта нам что–нибудь!». Вряд ли Моцарт желает при этом похвастаться перед Сальери многочисленностью своих сочинений в репертуаре уличных музыкантов. Скорее здесь зафиксировано восприятие автором своего творчества как некоего пусть разнообразного, но — в принципе — одного и того же, все время развертывающегося текста».
Я б только добавил, что Моцарт един и идеологически (если признать, что музыка имеет связь с идеалом).
1.13
ВОПРОС.
Зачем Пушкин ввел событийную неопределенность в кульминацию трагедии, а не ввел слова типа «незаметно», «украдкой»?
ПРИМЕР.
Как бросает? — Что украдкой — ниоткуда не следует, кроме как от стереотипной установки читателя.
ОТВЕЧАЕТ Ю. Н. ЧУМАКОВ (1979 г.)
Нельзя ли предположить, что перед нами не замаскированное злодейство, а откровенно демонстративный, открытый акт, что яд брошен в стакан прямо на глазах Моцарта? Такое понимание кульминации предложено ленинградским режиссером Н. В. Беляком.
Попробуем дополнить «воображением скупые ремарки поэта». Мы узнаем, что яд не «опущен», не «всыпан», а именно «брошен», то есть, видимо, произведен достаточно резкий и быстрый жест. К тому же в нем чувствуется — и скорее всего, прошло в творящем сознании Пушкина — нечто вроде вызова, сделанного Сальери, так как чуть позже Моцарт отвечает ему на этот жест («бросает салфетку на стол»), как бы подтверждая, что вызов принят. Слова же Моцарта, произнесенные вслед за жестом, «Довольно, сыт я», вводят убийственный для Сальери контрпоступок — исполнение реквиема [отпевание себя]. Налицо остро драматическое столкновение двух друзей. Теперь сцена отравления Моцарта перестает быть замаскированной и предательской расправой с беззащитным, доверчивым человеком, превращаясь в острейший и рискованный психологический поединок, в котором герои, одержимые демоническим [выделено мною] вдохновением, бросают дерзкий вызов друг другу и судьбе. Здесь очень важно, что оба друга–врага вступают в борьбу на равных основаниях, чем заодно выполняется и закон драматургической сценичности, предполагающий откровенное схлестывание двух воль, открытую трагическую игру, характерную для всех четырех пьес.
Попробуем хотя бы приблизительно эксплицировать содержание потока сознания, текущего за произносимыми словами персонажей, будь они живыми людьми. В глубокой тени слов Моцарта о несовместимости гения и злодейства маскируется неосознанное стремление отвести от себя предчувствуемую беду, но одновременно ставятся все точки над «и», провоцирующие Сальери на роковой поступок. Отводя, провоцировать — в этом есть манифестация судьбы, иронии, игры. Представим теперь состояние Сальери в этот момент. С одной стороны, замешательство, что он раскрыт, с другой — узнав, что предчувствие Моцартом смерти, которое проходит через обе сцены, направлено на него, Сальери убеждается, что именно он избран, чтобы «остановить» Моцарта. Замыкание этих противоборствующих мотивов приводит Сальери к импульсивному и дерзкому жесту. Произнеся «Ты думаешь?», он «бросает яд в стакан Моцарта» и предлагает ему выпить. Жест открытый и непредумышленный, содержащий игровой момент.
Психологической подкладкой поступка Сальери может быть следующее: «Ты сказал, что я гений, но вот я бросаю в стакан яд или разыгрываю тебя, а ты должен, если настаиваешь на своей правоте, выпить его. Если ты выпьешь, ты прав, но прав и я, потому что совершаю не злодейство, а выполняю свое предназначение, к тому же, может быть, помогая тебе, твоим тайным влечениям. Пей, докажи свою веру!» Все это и есть прямое столкновение, но не такая ситуация, при которой один нападает, а другой не подозревает о нападении. Здесь и порыв демонического [выделено мной] вдохновения, азарт без расчета, риск без учета последствий — одним словом, трагическая игра. Моцарт принимает ее условия. Веря и не веря, может быть, содрогаясь внутри себя или бравируя возможной опасностью, точно зная на самой глубине своего тайноведения, что пьет яд, Моцарт спокойно произносит здравицу другу, славит их союз сыновей гармонии и без малейшего промедления пьет стакан до дна. «Да, я пью, — как бы говорит он, — потому что верю тебе. Ты гений и ты друг, ты не можешь бросить яда, хотя и бросил что–то, не можешь совершить злодейства. Я пренебрегаю необъяснимым коварством, я почему–то чувствую смертельный риск, но я выпью, не показывая тебе своих сомнений…»