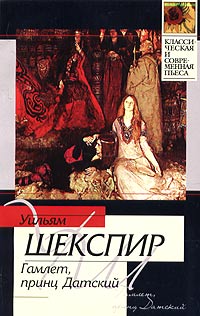Нежная душа
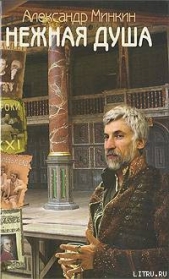
Нежная душа читать книгу онлайн
Александр Минкин – автор «Писем президенту» – на самом деле театральный критик. «Нежная душа» – книга о театре, драме, русском языке и русской душе. Посмотрев три тысячи спектаклей, начнешь, пожалуй, разбираться, что к чему: Любимов, Погребничко, Стуруа, Някрошюс, Юрский, Штайн, Гинкас, Яновская, Михалков-Кончаловский, Додин, Соловьев, Захаров, Панфилов, Трушкин, Фоменко…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нельзя передать, что с ним стало. Как смотрел он на свое божество – единственного, кто не гнал, не издевался над ним, немым и немножко сумасшедшим, единственного, кто любил и заботился. А теперь – ушел. Сторож горюя зачерпывал дрожащими руками муку из мешка, сыпал на мертвого, и Пиросмани начал белеть, побелела одежда, стало гипсовым лицо. Сторож поднял Пиросмани и, покачивая, повел к весам. Усадил на платформу весов. Ноги покойника сползли. Скуля, старик снова уложил их на весы. Все так хорошо, так красиво устроил. И Пиросмани оказался на весах. И старик надел на стержень гирьку и взвесил Пиросмани… Ну, и сколько весит умерший с голоду гений? Мало. К весам была привязана веревка. Скулящий, как раздавленная собака, старик впрягся, рванул, стронул и поволок. Странно, как-то боком сидящий на весах, уезжал Пиросмани от нас. Блаженный плакал, тянул веревку, весы медленно уезжали за кулисы.
Свет медленно гас. Гений покидал сцену, но лицо его вопреки логике все время было обращено к нам. Мертвец поворачивал голову, и глаза его, кажется, и в полной тьме все не отпускали наши души.
Как объяснить? Как истолковать?
Что толку спрашивать: как? почему?
Может быть, художник привык пристально, не мигая вглядываться в мир. Сколь бы ни был мир ужасен, художник не имеет права зажмуриться или бросить робкий взгляд искоса. Что бы ни было – лицом к лицу! Это профессия. Да, мертвец, уезжая на весах, поворачивал голову. Возможно, это мужество взгляда в упор, эта привычка, эта профессия не покинули художника и после смерти.
Как работает Някрошюс? На такие вопросы он не отвечает.
Прежде я думал, что он просто молчун. Типичный замкнутый литовец, не очень-то склонный откровенничать на неродном языке.
Теперь мне кажется, что он, возможно, и сам не знает ответа.
Как анализировать спектакли Някрошюса?.. А лучше спрошу: надо ли?
Его спектакли надо смотреть так, как слушают музыку.
Заменят ли симфонию Моцарта ученые слова музыковеда? А тому, кто слышал музыку Моцарта, не очень-то нужны слова о ней.
В детстве интересовался: что внутри у чудесной игрушки? А результаты исследования бросали в помойное ведро. «Сломал – нечего плакать».
Жизнь каждого человека полна ритуалов. И речь даже не о свадьбах и похоронах. Ритуальны наши рукопожатия при встречах и прощаниях, ритуальна мимика (особенно улыбки). А что такое воздушный поцелуй? Приподнятая шляпа?
Някрошюс создает театральные ритуалы. Их не надо учить. Они сразу понятны. Как понятна музыка и тому, кто не знает нот и теории контрапункта.
Някрошюс молчалив.
Ритуалы молчаливы.
Молчаливы и спектакли Някрошюса.
Средняя двухактная пьеса – семьдесят-восемьде-сят страниц. Средний спектакль по такой пьесе идет два часа.
«Пиросмани…» идет больше двух часов. А текста – двадцать три страницы.
Спектакль Някрошюса по роману Чингиза Айтматова «… И дольше века длится день» идет четыре часа.
В романе четыреста страниц. В инсценировке – тридцать.
В спектакле создан мир.
…В мире была ночь, в ночи горел костер, слышались невнятные, совершенно неразборчивые голоса, какое-то бряканье; гармошка пела так далеко, что трудно было уловить мотив.
Но это, несомненно, был мир, ибо ничем не раздражал. Когда темно на сцене – это мешает смотреть, и уже привычно, что таким «верным» способом хотят или нечто скрыть, скажем фальшивую мимику актера, или же, напротив, нечто показать, скажем, какую-то «атмосферу». Ведь это так и называется – «создать атмосферу». И неразборчивые голоса – для «естественности». И далекие звуки – на деле тихая фонограмма из близких динамиков. И, наконец, самая отвратительная деталь «атмосферы» – электрокостер, заменивший повсеместно вентилятор с красными лоскутами, костер, чьи языки пламени дергаются столь же естественно, как неисправная лампа дневного света.
На полутемную сцену, бывает, злимся. А на настоящую ночь не злимся никогда. На сцене костер горел настоящий, запах дыма был настоящий. Звуки действительно доносились издалека, и было ясно: где-то там сидят люди, пьют, разговаривают. Звякает посуда… Нет, в звуке было еще что-то. А, понятно – брякают колокольцами овцы. И как только услыша-лось, что овцы, то сразу и увиделось, точнее, ощутилось: люди сидят на кошме, поджав ноги, в руках пиалы… Бескрайняя Азия была перед нами. Плоская, голая, бесконечная. Далекие звуки слышишь по-разному: в лесу они доносятся так, в городе – иначе. Здесь человеческий шумок еле долетал, не спотыкаясь, однако, ни о дома, ни о деревья. Гармошка все пиликала, и в какой-то миг мучительные попытки опознания сменились изумлением: «Сулико»? Что делает здесь эта грузинская песня? Но узнанная, она теперь каждой доносящейся нотой подтверждала себя:
Долго я томи-и-ился и страдал…
Где же ты, моя Сулико… [14]
Вот появился человек. Слегка косолапя, чуть прихрамывая, опираясь на железную стучащую палку – кусок дюймовой трубы, он деловито шлепал чёботами, бормотал что-то себе под нос, сокрушался о чем-то.
По затерянному в необозримых равнинах разъезду Боранлы-Буранный бродит путевой обходчик Едигей, осматривая и проверяя свое хозяйство. А хромота осталась, видно, с войны. Даже не хромота, а приволакивание. Левой шагнет, правую подтащит; ходит, стучит железной палкой… Потом стал ведрами воду носить в бочку. Притащит два ведра, разом вскинет на край бочки и разом же выльет воду из обоих – сноровисто.
И все это – ночь, звуки, вода, костер, деловитый хромой – было до того настоящее, что когда свет впервые упал на лицо Едигея – странно стало, с недоумением отметилось: узкое лицо. Вместо уверенно ожидаемого широкого узкоглазого казахского лица – вдруг – лицо литовца. И с этого момента Някрошюс совсем отбросил заботу о натуралистическом подобии, как бы решив, что раз мы увидели «не то» лицо, то можно откровенно стать театром. Но мы уже были околдованы правдой, сложившейся из запахов и звуков, из льющейся в бочку воды и языков огня, из походки и бормотания Едигея, и готовы были принимать всё, лишь бы не нарушалось, не разрушалось волшебство возникшего мира – мира, о котором мы прежде читали в книге, а теперь увидели во плоти: вот он, Боранлы-Буранный, вот он, Едигей.
О чем спектакль? О жизни человека. О памяти, без которой человека нет. Роман всем известен. Пересказывать сюжет нет смысла. [15]
В романе важное место занимает верблюд Каранар. Огромный, буйный и символичный. Как конь Гюльсары, как мифическая Мать-олениха. [16]
В романе есть и ракеты, авианосцы, центры слежения, международные совещания – все, что на сцене показать куда легче, чем одного верблюда. Мигающие пульты, телеэкраны, радиоголоса – весь этот легкодоступный антураж Някрошюс не показывает.
А верблюда – показывает! Да как! Каранар у Ня-крошюса – еще одно доказательство волшебного могущества театра.
Можно, конечно, описать, как четыре человека с толстой разлохмаченной веревкой изображают верблюда. Но опять получится «журчанье ручейка в анданте» – пустые слова. А верблюд живой. Пьет воду, бунтует, утешает Едигея, даже имеет «выражение лица». Не то что тоскливые ходячие зоосадовские чучела.
Упрямство, упорство – без этих строптивых верблюжьих качеств не возникли б его спектакли. На каждый уходил чуть ли не год.
Слишком объемны. Слишком немногословны. Молчаливы.
Чем меньше слов в произведении, тем труднее его описать.
Някрошюс переводит текст на язык сцены. Он творит на сцене живой и объемный мир.
А текст отбрасывает, как выжатый тюбик краски.
Кричат, обвиняют (надо же в чем-то обвинять) в пренебрежении к слову. Но разве он ставит для слепых? Разве мало в наших театрах «радиоспектаклей», где все с выражением произносят заученный текст и «для оживляжа» переходят на деревянных ногах от стола к дивану? Закрой глаза – ничего не потеряешь.