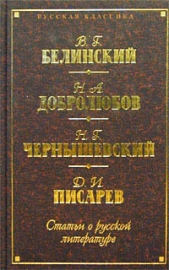Творчество и критика

Творчество и критика читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я взял очень резкий пример, но тысячи подобных можно указать по всех произведениях Д. Мережковского. И это крайне характерно: мы воочию видим процесс ледяной игры разума, складывания из льдин разнообразных фигурок. Слово само по себе-мертво; оно получает трепетание жизни только тогда, когда идет из глубины души человека. Когда из переживаний рождается связь слов, это-живой организм; когда из слов рождаются понятия, это-мертвая игра разума. Можно точить и обтачивать слова и быть великим воплощением жизни. Так Пушкин, набросав начерно вылившееся из души стихотворение, прилагал громадный труд, чтобы из живого, но еще бесформенного наброска создать соразмерное и попрежнему живое творение; так А. Ремизов-чтобы взять современный пример-громадным трудом рождения, собирания и вытачивания слов достигает вершин поэтического творчества. Но можно также вытачивать слово за словом, фразу за фразой и сделать красивую вещь, не заботясь о духе жизни. И эта способность тоже не всякому дана; это особые дар не творчества, а мастерства. Творчество всегда исполнено трепетом жизни; мастерство же, идущее от слов к понятиям, всегда может быть только мертвым. Но и в этой области мертвого мастерства могут быть разные степени дарования; Д. Мережковский в этом смысле принадлежит к достаточно крупным мастерам. Он не художник, ибо всякий художник есть творец, ибо над всяким милостию Божией художником веет дух жизни; но в своем мертвом мастерстве Д. Мережковский достиг значительного искусства. Читая его «трилогию», ясно видишь, как искусно обтачивается и прикладывается льдинка к льдинке, как соразмерно проявляются антитезы лиц и положений, как из всего этого возникает если не живая красота, то по крайней мере мертвая красивость.
«Каламбурное мышление» с одной стороны, «власть слова»-с другой: на них построено все мастерство Д. Мережковского. Приводить примеры было бы и скучно, и утомительно, и бесполезно: достаточно указать на власть слова-власть цитат над этим писателем. Вечные, бесконечные цитаты! Не он ими, а они им владеют. Интересно было-бы подсчитать (громадный труд!), сколько раз герои Д. Мережковского-т.-е. он сам- сколько раз они «вспоминают» но любому мелкому поводу чужие слова, цитаты, евангельские тексты и т. д. Если хотите видеть типичный пример-просмотрите последние страницы четвертой главы девятой книги «Петра и Алексея»: там автор, спрятавшись за манекенного Тихона, вспоминает, не давая бедному читателю ни отдыху, ни сроку, целый ряд цитат из Ньютона, из Брюса, из Писания, из Леонардо-да-Винчи-и все это связано словесными ассоциациями, сшито белыми нитками каламбурного мышления. И таких примеров десятки, сотни! Другой пример той-же «власти слова» над Д. Мережковским: типичные для него «обращенные фразы»-обращенные кстати и некстати. Святая плоть- бесплотная святость одухотворение плоти-воплощение духа; бесплотная духовность-бездушная святость; воплощаемый Бог-обожествляемая плоть: умерщвленная плоть-мертвая плотскость: какая поистине это ледяная игра разума! Из двух-трех льдинок складывает холодный Кай нее те-же, все те-же слова-и никак не может только сложить самого простого: любовь к людям. И это без конца, без предела, настойчиво, холодно, утомительно. Так и мелькают на страницах «преступная мученица» и «добродетельный палач», «раздвоенное сознание» и «бессознательное раздвоение», «неразумный Бог» и «безбожный разум»; или: «начали богословием, кончили сквернословием», «начали гладью, кончили гадью». Или еще сложнее: «у Л. Толстого мы слышим, потому что видим: у Достоевского мы видим, потому что слышим»; «потому-ли он ни на кого не похож, что болен, или потому болен, что не похож ни на кого?» И так далее, и так далее, без перерывов, без конца, строго следуя знаменитой формуле:
Мог-ли ожидать автор этих пресловутых строк, что сущность их ляжет некогда в основу литературного метода Д. Мережковского?
Но ночему-же, однако, если Д. Мережковский так любит слово, почему оно не живет в его мастерстве, почему он не творец, а мастер, не поэт, а стихослагатель? Внутренняя причина этого лежит глубоко-в самом существе, самой сущности этого писателя (о чем у нас еще будет речь); но достаточно уже ознакомиться с четырьмя томами его стихотворений, чтобы убедиться в «бледной немочи» Д. Мережковского. Прежде всего, слушая слова Д. Мережковского, не всегда можешь поверить его чувству. Мне всегда вспоминается, как, произнося свою статью о Тургеневе на вечере, посвященном его памяти, Д. Мережковский прочел по тетрадке: «у меня сейчас такое чувство, как будто И. С. Тургенев, которого кое-кто из пришедших на эти поминки знал при жизни-… у меня, говорю я, такое чувство, как будто он присутствует здесь, видит и слышит нас»… (XVIII, 197). Вот вам «экспромт», тщательно заготовленный дома! Как же после этого верить во все слова Д. Мережковского?
Другая причина бессилия его поэтического слова-еще важнее. У него нет своего эпитета. В стихах его поражает прежде всего обилие эпитета пушкинского, намеренная подражательность, заимствование. Так и рябит в глазах: «безмолвная печаль», «медлительная ночь», «безумная надежда», «пленительный смех», «багряная листва», «поэтов ветренное племя», «стих унылый», «веселье прежнего напева», «Нева, закованная в гранит», «вдоль сумрачной Фонтанки влачатся медленные санки», «царственная Нева», «увлекательный обман», «печальная суровость», «обвив его руками, еще холодными устами припала к трепетным устам» — и снова, и снова, еще и еще: «дым багровый», «свободный ум», «младенческая радость», «буйная радость», «беспечная улыбка», «беспечная нега», «пленительная грусть», «сень дубрав пустынных»… В автобиографических «Старинных октавах» Д. Мережковский рассказывает о том, как в детстве начал он писать «глупые стихи», которые казались ему «пределом совершенства», и прибавляет: «я Пушкину бесстыдно подражал». Как видим теперь, он мог-бы повторить это и о позднейших своих стихотворениях, пронизанных пушкинизмами. Не говорю уже о прямых списываниях с Пушкина (например, в тех же «Старинных октавах» вторая строфа первой песни и сто одиннадцатая строфа второй).
Все это было бы вполне допустимо, если кроме этих пушкинизмов у Д. Мережковского был бы также и свой эпитет. Но его нет. Кроме Пушкина, встречаешь в стихах Д. Мережковского многих других поэтов (например, Лермонтова: «недремлющие думы», «угрюмый жребий», холодный ум), а затем-буквально тонешь в море шаблонных и бесцветных эпитетов, ходячей пошлости, прозаизма. На каждой странице вы найдете что-либо вроде «жгучего стыда», «жгучего сомненья», «жгучей тоски», «упоительных грез», «восторженных слез», «пламенных клятв», «роковой любви», «необъятного простора благовонных лугов», «горького предчувствия», «безумного ужаса», «вечной лазури», «мучительной борьбы», «упоительного отдыха» (и это-в стихотворении «Если розы тихо осыпаются», которое считается одним из лучших в поэзии Д. Мережковского!)… Я мог бы еще удесятерить эти примеры, взятые на-удачу, привести еще разные «бледные цветы воспоминаний», «сладкие волнения», «сладкие тайны» и так далее, и так далее, — но и приведенного уже достаточно. Можно только прибавить, пожалуй, еще эпитет «таинственный», который прилагается Д. Мережковским решительно ко всему, чему угодно. На страницах его стихотворений пестрят «таинственные огни», «таинственные мечты», «таинственные жужжания», «таинственные кручины», «таинственные лампады», «таинственные печали», «таинственные леса», «таинственные закалы», «таинственный ил в пруду», «таинственное горение елки», «таинственные приговоры»… Я не берусь перечислить все те имена и предметы, которые квалифицируются Д. Мережковским, как «таинственные»: кроме перечисленных, здесь еще даль, гармония, храм, мгла, думы, голос, пророчество, привет, огонь, пучина, прелесть-и все, что вам угодно. Это симптоматично. Д. Мережковский думает, что, приставляя куда ни попало слово «таинственный», он действительно говорит о таинственном. Да, он говорит-но и только; а ведь задача художника и поэта-заразить, внушить, а не только отделаться словом.