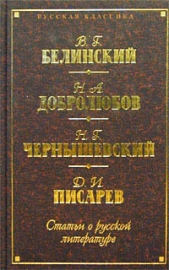Творчество и критика

Творчество и критика читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И то, как он любит и принимает слова, показывает воочию, как он принимает и любит жизнь. Прочтите «Посолонь»-какая прозрачная нежность! И как просто, казалось бы, она достигается! Просмотрите там «Кострому»-все построено на уменьшительных именах. Но попробуйте, не будучи художником, прибегнуть к этому же приему: посмотрите, какое получится противное сюсюканье! Или прочтите в «Лимонаре» апокриф «Гнев Илии Пророка»-многое ли вы найдете равного по изобразительности, по достигнутой силе, во всей русской литературе? Последуйте за автором «К Морю-Океану»-и вы увидите, как подлинная жизнь переливается и искрится во всем, к чему ни прикоснется рука художника. Возьмите, наконец, «действа»-и вы увидите в них не опостылевшую всем «стилизацию», а подлинное художественное воскрешение, нечто единственное в этом роде во всей русской литературе. И после всего этого-перейдите вдруг к «Крестовым сестрам» или «Пруду», где с тем же остро-отточенным оружием стиля автор проникает в глубь души современного живого человека.
Да, недаром А. Ремизов прошел в свое время через «декадентство». Все завоевания его он сохранил и удержал, во многом сам проложил вперед дорогу; но он сумел преодолеть в своем творчестве все то, что привело в конце-концов «декадентство» к вырождению и оскудению. В стиле и манере «Пруда» пишут теперь только эпигоны декадентства; характерный пример-роман Ивана Рукавишникова, «Проклятый род» (1911 г.). Дешевые эффекты, бывшие десять лет тому назад новыми, нарочитая изысканность, изломанность чувства и стиля-все это стало теперь доступным бесчисленным эпигонам декадентства. И как раз в это самое время тонкий и глубокий художник, А. Ремизов, сознательно идет к все большей и большей, безмерно более трудной простоте линий и формы. Интересно сравнить редакцию собрания его сочинений 1911 года с первоначальным текстом тех же произведений: ценнейший материал для изучения психологии и эволюции творчества! Сравните «Часы» или «Пруд» первых изданий (1905 и 1907 г.г.) с текстом этих же романов в собрании сочинений-почти ни одна фраза не осталась без изменений, некоторых страниц узнать нельзя. К изучению всего этого когда-нибудь еще вернется история литературы.
Но и теперь уже ясен облик этого художника, так любовно ищущего старых и новых слов, так горько ненавидящего мир и жизнь, так искренно благословляющего и мир и жизнь великим благословением. Не понимая, он принимает и жизнь, и мир; но кто принял-тот понял, если не разумом, то внутренним чувством. Распинатели и распинаемые, обезьяны и «Святая Русь», вся жизнь «до травинки» и тяжкая крестная ноша-соединены в творчестве А. Ремизова в одно целое, ибо так соединены они и в самой жизни.
Это трудно принять и понять; а потому для многих творчество А. Ремизова останется навсегда книгою за семью печатями. Но те, кто чувствуют одновременно и мучительную глубину и художественную прелесть этого творчесгва-высоко ценят и будут ценить этого подлинно большого писателя.
1910–1911 г.г.
МЕРТВОЕ И ЖИВОЕ
Мертвое мастерство.
…И если там, где буду я,
Господь меня, как здесь, накажет, —
То будет смерть, как жизнь моя,
И смерть мне нового не скажет…
Д. Мережковский-настолько крупный писатель, что раньше или позже историки литературы займутся изучением в хронологическом порядке его многообразной деятельности, рассмотрят «эволюцию» его взглядов, найдут начала и концы, подведут итоги… Вряд ли только уместно заниматься этим в настоящее время, когда «конца» деятельности этого писателя мы еще не имеем, и когда еще возможны самые разнообразные повороты этой деятельности. Но зато уже давно можно подойти к этому писателю с другой стороны: оставить в стороне его «историческое развитие» и попробовать найти тот пафос творчества, который у каждого крупного писателя свой, — тот «пафос», который только и может служить критику и читателю ариадниной нитью в лабиринте всякого творчества.
И прежде всего следует поставить себе следующий вопрос: почему к деятельности Д. Мережковского, к его «проповеди»-современники его почти совершенно равнодушны; почему «пафос» его, повидимому, никого не заражает, никого не увлекает? Это заслуживает внимания: в чем тут дело? Не повторяется ли здесь вечная история гения, но понимаемого современниками? Голос ли Д. Мережковского слишком слаб, или окружающие глухи? Повидимому, не в этом дело-причину надо искать глубже. Услышали же Д. Мережковского настолько, что некоторые даже возложили на него царский венец после смерти Л. Толетого. «Ему по праву должно принадлежать освободившееся за смертью Толстого царское место в русской литературе»… Правда, это венчание Д. Мережковского на царство было только рекламой издательства собрания его сочинений; правда, к рекламе этой все, начиная с самого Д. Мережковского, отнеслись крайне отрицательно; но все-таки факт на лицо: вышло уже пятнадцатитомное собрание сочинений Д. Мережковского, книги его расходятся многими изданиями, его читают, его высоко ценят-и к нему совершенно равнодушны… Отчего же это? Неловкое и рекламное венчание Д. Мережковского на царство невольно наталкивает на целый ряд вопросов, на целый ряд мыслей, которые подводят нас к самой сущности «пафоса» этого писателя.
Действительно, стоит только вдуматься: почему же настолько неприемлемым и диким представляется это помазание Д. Мережковского на царство? Чтобы понять это-стоит только вспомнить, кто всегда был «царем» для русского читателя. Царем в русской литературе мог быть только «пророк», только «учитель». Царит Пушкин, великий учитель вечной красоты и солнечной жизни; царит Лермонтов, пророк вечной борьбы с жизнью и миром; царит Достоевский, царит Толстой, великие учители и пророки, проповедники великих религиозных и философских истин. И этот венец не по просьбе дается и не силой берется; иной раз великие писатели хотели бы обменять свою царскую корону на мантию пророка-но этого им не дано. Признанным царем русской литературы 40-х годов был Гоголь; но ему мало было этого признания; он хотел быть проповедником и учителем. Знаменитая его «Переписка» и была попыткой сменить царское звание на пророческое; но попытка эта кончилась гибелью Гоголя. Гибнул всякий, кроме первосвященника, прикоснувшийся к Скинии Завета; гибнет всякий лжепророк, пытающийся надеть на себя мантию пророка,
Умер великий пророк земли русской; теперь и Саул может быть во пророцех. Д. Мережковский вот уже четверть века занимает пост проповедника; отчего же, повторяю, таким нелепым, диким, неприемлемым и кощунственным представляется услужливое провозглашение его первым кандидатом на пророческое место? Не потому ли, что к Скинии Завета хочет прикоснуться непосвященный, что мантию пророка хотят надеть на лжепророка? Нет, мы еще увидим, что дело здесь совсем не в этом.
Да и зачем говорить о «пророке»? Достаточно будет, если мы по поводу Д. Мережковского заговорим просто о проповеднике, учителе, пастыре: их ведь много у нас в русской жизни и литературе. Но и в этот более скромный ранг не придется возвести Д. Мережковского. Почти всегда «учитель» имеет «школу», учеников; проповедник имеет слушателей; пастырь собирает вокруг себя стадо. Все у нас учителя, все пастыри, все стада пасут и все своих овец от волков оберегают… Но где же ученики, где слушатели, где верные овцы Д. Мережковского? Четверть века он учит, — и нет у него учеников; четверть века он проповедует, — глас вопиющего в пустыне. То, что дано многим меньшим его, в том ему отказано; один он-пастырь без стада. А как бы страстно хотелось ему «пасти овцы своя»! В чем же дело? Где причина?
Появляется какой-нибудь «братец Иванушка», — и собирает вокруг себя тысячи жаждущих и алчущих поучения и спасения. Появляется в марксизме какой-нибудь «богостроитель», — и группирует около себя десятки и сотни последователей. Куда ни взглянешь, — всюду ученики, у всех последователи.