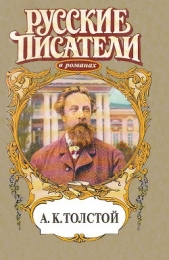Алексей Толстой

Алексей Толстой читать книгу онлайн
«Алексей Толстой, как Иоанн Дамаскин, герой его поэмы, был, несомненно, искренний иконодул искусства, и наиболее ненавистны и непонятны были для него иконокласты, „икон истребители“, самодовольные в своей материалистической трезвости. Он не считал песнопения грехом, не видел в нем „прелести“. Без икон красоты, без этого красного угла эстетики, не мила ему была самая храмина жизни. Там, где беззвучно, где нет песни, – там для него небо не защита, не свод, а тягость и оно „усталую землю гнетет“…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он знает, что Господь не сотворил его непреклонным и суровым, не дал ему законченности; но здесь и прекращается его сознание – дальше идет уже та его незаконченность, которую видят лишь его читатели, та невыявленность и невыясненность «сонной души», та зыбь ее, которая незаметна для самого художника. У него бывают приливы души, но ему как будто больше, чем другим, за приливы надо платить отливами. Ему сродни и шумящее и спокойное море. Он не целый поэт; не весь, не сплошь он поэт. Толстой сам говорит в одном стихотворении, что в глубине его сердца таится много непетых песен, что из этой глубины идет шепчущий голос как ропот струй, – но заглушается шепот сердца шумом жизни, подобным вихрю, ломающему бор. Так боролись в нем два шума и отнимали у него полноту поэтичности. Можно убедиться в этом даже на том внешнем, но серьезном факте, что в своих лирических стихотворениях он злоупотребляет сравнениями, плодом рассудочности. У него – неприятная законченность сравнений, он слишком заботливо и тщательно подыскивает параллели, и, когда найдет последнюю черту сходства между физическим и духовным, между явлением сердца и явлением природы, когда, по своему обыкновению, привяжет свою эмоцию к какой-нибудь внешней идее, тогда, довольный этой налаженной симметрией, он успокаивается и ставит точку. Например, разве непосредственно, а не умно только следующее сравнение:
И для того, чтобы написать излюбленный им образ кроткой, печальной, несопротивляющейся женщины, он уподобляет ее листку, сизому дыму на жниве, цветам яблони, лощинке, затененной горами:
На этом стихотворение кончается; но не кончается ли на этом и самая эмоция, – с совершенным сравнением не завершилось ли и чувство?..
У Толстого, нецельного дарованием и душою, вы замечаете двойственность и другого характера – в том отношении, что он мог бы о себе произнести слова из своего «Дон Жуана»:
Он делит веселье с грустью пополам, уныние с отвагой, он восклицает: весело и горестно сердцу моему; он видит печальные очи, но слышит веселую речь.
В самом течении и ритме стихов дышит у него радость жизни; часто внутренним зрением улавливаешь на его лице веселую, шутливую, порою – насмешливую улыбку. Иной раз даже льется через край страстное, взволнованное и волнующее чувство. Хочется вздохнуть всею грудью, хочется крикнуть, – нужны междометия, звуки без понятий, один припев:
«Почуяло сердце, что жизнь хороша», и потому
У него есть, у Толстого, неудержимый восторг перед счастием бытия, перед радостью дыхания, и прямо из души выливается один из прекраснейших звуков русской поэзии – эта светлая волна ранней весны, этот вечно свежий, полный восхищения и грусти клик человеческого сердца:
Он вообще – поэт весны; так сказать, несомненная, очевидная, всем нравящаяся, она, приспособленная к общечеловеческому вкусу, является и его любимым временем года, «зеленеет в его сердце». Правда, отдельными мотивами есть у него и песнь об осени, о которой он так прекрасно говорит, что она наступает, когда «землей пережита пора роскошных сил и мощных трепетаний, стремленья улеглись», – но не эта «последняя теплота» природы влечет его преимущественное внимание. Нет, майское, счастливое, ласковое – вот что ликующими ручейками звенит у него в стихах, и кого не возбудит эта божественная игра, которая разыгрывается в свежем, в зеленом, в лесу молодом, где синеет медуница, где черемуха гнет свои пушистые ветви?
От этой звонкости «сердце млеет и кружится голова», и недаром Канут, ослепленный природой, обманутый коварной, усыпляющей властью весны с ее шиповниками и соловьями, не чуял близкой погибели, беды неминучей, – напрасно предостерегала его любящая супруга, напрасно взывала к нему: «любимый, желанный, болезный»…
Но в земной весне с ее васильками и синими кувшинчиками поэт не остался, веселый месяц май не удовлетворяет его и ощущается им как некая часть, которой он не в силах слить с целым. Подавленный своею дробностью и разрозненностью, Толстой всегда чувствует отдельно землю и отдельно небо; у него есть соседство двух миров, но не их тожество, на которое способна только душа внутренне претворяющая. Вселенная распадается для него на два полушария – не слито, не достигнуто великое Одно. И потому он часто в разных формах говорит о том, что душа его влекома в беспредельное, чует незримое, но что в то же время он не чужд и здешней жизни – она лишь не кажется ему «окончательной целью». Ибо цель – в цельности.
вот искреннее признание Толстого. Он любит землю, но возносится над нею и в своей лирике запечатлел отрадную – быть может, от других унаследованную, отчасти на веру принятую – веру, что земное не есть начало и не есть завершение жизни. Его религиозное чувство, правда, сильно умерено его эстетизмом, но в самой эстетике его, в его поэзии таятся и воспоминания о сверхчувственном и надежды на него. Он смотрит на жизнь, и ему кажется:
Душа, как у Платона, вспоминает песни, которые уже звучали некогда, которые и теперь безмолвно живут в ней; и, может быть, лучшие псалмы каждого – это «мои непетые псалмы»; каждый, подобно Иоанну Дамаскину, внемлет «внутренним звукам» своего сердца. Все мировые звуки – отзвуки прошлого. Но есть и будущее; и верит поэт, что все наши слова сольются в Слово, откуда они истекли, что все наши отдельные любви сольются в одну Любовь, широкую, как море, что не вместят земные берега. И вот, Эрос, тоска по той вечности, которой Толстой не сумел постигнуть здесь, на земле, в берегах времени, обычная людская неудовлетворенность всякой данной жизнью, – это желание горнего и породило в нашем художнике его печаль, затуманило его майскую радость, вдохнуло в нее сладостную мелодию грусти. Вот почему и весело и грустно его сердцу; вот почему вылечится острою секирой раненная береза, но не залечит раны это больное сердце – вечная рана жизни, неисцелимая человеческая боль!..