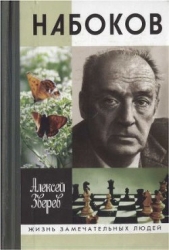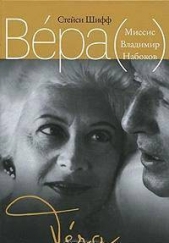Владимир Набоков: pro et contra. Том 1

Владимир Набоков: pro et contra. Том 1 читать книгу онлайн
В первый том двухтомника «В. В. Набоков: pro et contra» вошли избранные тексты В. Набокова, статьи эмигрантских критиков и исследования современных специалистов, которые могут быть полезны и интересны как для изучающих творчество В. Набокова, так и широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Книга о Чернышевском — это уже опыт диалогического взаимодействия героя не только с другим, но и с чужим, более того, откровенно чуждым сознанием. Причем, по логике диалога, чужая правда здесь ни в коем случае не мешает, но способствует осуществлению своей, личностной правды Годунова-Чердынцева («другая правда, правда, за которую он один был ответственен, и которую он один мог найти…»). Характерно, что даже сам замысел книги о Чернышевском («я хочу все это держать как бы на самом краю пародии… А чтобы с другого края была пропасть серьезного, и вот пробираться по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее») отмечен печатью диалогической амбивалентности. Именно ею объясняются и «снимаются» все кажущиеся противоречия пресловутой четвертой главы романа. Сам Чернышевский здесь выглядит одновременно как фигура шутовская («его и не считали солидным человеком, а именно буфоном, и как раз в шутовстве его журнальных приемов усматривали бесовское проникновение вредоносных идей»), комически-нелепая («не отличая плуга от сохи, путал пиво с мадерой», ошибается в именах собственных детей и т. п.) — и в то же время ангельски-беспомощный мученик, прямо уподобляемый Христу («И странно сказать, но… что-то сбылось, — да, что-то как будто сбылось») [555]. Интонация повествования то и дело перетекает от издевки и даже глумления — к сочувствию, неподдельному состраданию. Показательно, например, что очевидная фарсовость роли мужа-рогоносца, выпавшей на долю Чернышевского, окрашена автором в тона отнюдь не фарсовые: «…сказывалась та роковая, смертная тоска, составленная из жалости, ревности и уязвленного самолюбия, — которую также знавал муж совсем иного склада и совсем иначе расправившийся с ней: Пушкин». Впрочем, и сама фигура автора амбивалентно двоится: то перед нами демиург, приручивший темп судьбы своего героя, то один из персонажей жизнеописания, нечто среднее между реальным Стекловым и придуманным Страннолюбским; недаром через весь текст проходят иронические ремарки типа: «сказал автор», «надо выудить эту неуклюжую бирюльку из одной, уже сложенной фразы. Большое облегчение». Амбивалентность жизнеописания подчеркнута и сопровождающими его рецензиями (тоже, кстати, выполненными Набоковым на грани пародии): пестрота рецензионных оценок, в сущности, сводится к упреку профессора Анучина — «горе в том, что у господина Годунова-Чердынцева не на что сделать поправку, а точка зрения — „всюду и нигде“… так что опять неизвестно, на чьей же стороне господин Годунов-Чердынцев». Однако само появление этих рецензий — реакции «чужого» на мир героя, — тем более, что среди них есть рецензия Кончеева, читая которую Федор Константинович чувствует, «как вокруг его лица собирается некое горячее сияние, а по рукам бежит ртуть», — становится знаком расширившегося диапазона диалогических отношений героя-творца с жизнью.
Примечательно и то, как по мере развития дара Годунова-Чердынцева в каждом его произведении все отчетливее звучит мотив бесконечности. В стихах он еще звучит робко: «всякое удавшееся детство», воспоминание о ясновидении в детстве, во время болезни («я лелеял в себе невероятную ясность, как случается, что между сумеречных туч длится дальняя полоса лучезарно-бледного неба, и там видны как бы мыс и мели Бог знает каких далеких островов, — и кажется, что, если еще немножко отпустить вдаль свое легкое око, различишь блестящую лодку, втянутую на влажный песок, и уходящие следы шагов, полные яркой водой»). В повествовании об отце тема бесконечности уже сюжетно воплощена, во-первых, через соотношение истории жизни отца с пушкинским мифом; во-вторых, через образ природы, в которой отец как бы растворяется, но не бесследно, а оставляя на ней отпечаток своей личности: «и во всех концах природы бесконечное число раз отзывается наша фамилия…». А в жизнеописании Чернышевского мотив бесконечности реализован конструктивно в идее Федора Константиновича «составить его жизнеописание в виде кольца, замыкающегося апокрифическим сонетом так, чтобы получилась не столько форма книги, которая своей конечностью противна кругообразной природе всего сущего, сколько одна фраза, следующая по ободу, то есть бесконечная…» [556]. Важно и то, что сам этот «апокрифический сонет», рисуя Чернышевского как фигуру вечную, завершается образом кольца бесконечности: «…и белое чело кандальника венчая одной воздушною и замкнутой чертой…».
Итак, соединение диалогической устремленности с устойчивой ориентацией на ценностный камертон «бесконечного настоящего» проходит через все творчество Годунова-Чердынцева. Но новое качество это единство обретает в истории любви Федора Константиновича и Зины Мерц (главы 3 и 5).
Вик. Ерофеев высказал на первый взгляд парадоксальную мысль: по его мнению, Федор Константинович Годунов-Чердынцев производит впечатление наименее душевного и человечного из всех набоковских персонажей, и происходит это именно потому, что Федор Константинович из всех них сумел наиболее полно выразить себя, в том числе и творчески: «Короче, „я“ набоковского метагероя обретает истинную человеческую силу в момент слабости, сомнения в себе, любовной неудачи (Мартын), нервного перенапряжения (Лужин) и — бледнеет, меркнет, дурнеет в момент славы и самоутверждения (Федор Константинович Годунов-Чердынцев — вот это разросшееся „я“, чью экспансию удачно и непроизвольно передает расползшееся на полстроки претенциозное имя героя)», — подводит итог Виктор Ерофеев [557].
И в самом деле, почему нет болезненности и надрыва в Годунове-Чердынцеве? Почему он так уверен в себе и так неприлично свободен от изнурительных комплексов и приступов рефлексии, хотя оплеухи судьбы, неудачи, непонимание и его не обходят стороной? Да потому, что он обретает то, чего нет ни у Лужина, ни у Цинцинната, ни у Мартына, ни у Кречмара. Он находит понимающую душу — свое второе «я». Ведь никогда прежде любовь героя Набокова не была счастливой, она всегда была безответной; понимание в лучшем случае имитировалось, но никогда не было истинным и взаимным. А Годунов-Чердынцев находит Зину Мерц: «Одаренная гибчайшей памятью, которая, как плющ, обвивалась вокруг слышанного ею, она, повторением ей особенно понравившихся сочетаний слов, облагораживала их собственным тайным завоем, и когда случалось, что Федор Константинович почему-либо менял запомнившийся ей оборот, развалины портика долго еще стояли на золотом горизонте, не желая исчезнуть. В ее отзывчивости была необычайная грация, незаметно служившая ему регулятором, если не руководством» [558].
И это не просто преодоление одиночества. Суверенный творческий мир даруется другому человеку (вот еще одна грань названия романа) с тем, чтобы тот, другой, принял этот мир как свой. Исчезает герметизм, и это дает волшебному миру творческого переживания гарантию прочности, — отсюда ощущение здоровья и счастья. И самое главное: происходит то, что возможно лишь в искусстве; в самой жизни возникают те счастливые отношения, которые иногда, тоже не часто, складываются между автором и чутким читателем, художником и понимающим зрителем, музыкантом и тонким слушателем. Не случайно Зина входит в роман как один из немногих читателей Годунова-Чердынцева [559].
Для самого же набоковского индивидуалиста это обретение понимающей, любящей и любимой души приводит к своеобразному «удвоению» личности: одно «я» уже не мыслит своей свободы без другого «я» — подобно тому как сиамские близнецы не существуют один без другого, ибо у них единая система жизнеобеспечения. Показательный пример: с того момента, как в «Других берегах» (а «Дар», по-видимому, из всех романов наиболее близко подходит к «Другим берегам») появляется образ жены Набокова (глава 13), гордое авторское «я» сменяется на теплое «мы с тобой», «ты и наш маленький сын». Как не вяжется эта нежность со стереотипным представлением о холодном высокомерии Набокова! Читаем здесь же (глава 14):