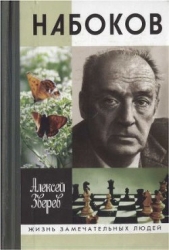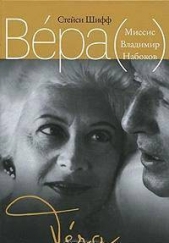Владимир Набоков: pro et contra. Том 1

Владимир Набоков: pro et contra. Том 1 читать книгу онлайн
В первый том двухтомника «В. В. Набоков: pro et contra» вошли избранные тексты В. Набокова, статьи эмигрантских критиков и исследования современных специалистов, которые могут быть полезны и интересны как для изучающих творчество В. Набокова, так и широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Собственно, процесс диалогической «авторизации» Федором Годуновым-Чердынцевым самого себя и составляет существо его творчества в целом; а развитие этого процесса организует сюжет «Дара» (о чем речь пойдет ниже).
Однако главному герою «Дара» — и экзистенциальному двойнику Набокова — мало только преодоления границы собственной личности. Это лишь первая часть куда более грандиозного проекта. Его очертания в полной мере проступают только в финальной главе романа. «Вожделею бессмертия, — хотя бы его земной тени!» — пишет Федор Константинович в письме к матери, лишь ироническими кавычками снижая пафос этого принципиального творческого устремления. Чуть раньше (но в той же главе) звучит еще одна программная декларация: «Определение всегда есть предел, а я домогаюсь далей, я ищу за рогатками (слов, чувств, мира) бесконечность, где сходится все, все». Здесь же, во втором «разговоре» с Кончеевым, возникает и прямой философский комментарий к идее бесконечности: «Бытие, таким образом, определяется для нас как вечная переработка будущего в прошедшее, — призрачный, в сущности процесс, — лишь отражение вещественных метаморфоз, происходящих в них. При этих обстоятельствах, попытка постижения мира сводится к попытке постичь то, что мы сами создали, как непостижимое… Наиболее для меня заманчивое мнение, — что времени нет, что все есть некое настоящее, которое как сияние находится вне нашей слепоты, — такая же безнадежно конечная гипотеза, как и все остальные».
Этот философский мотив явно восходит к эстетике символизма, но окрашен Набоковым опять-таки нетрадиционно — в духе «семантической поэтики». «Вечное настоящее» жизни, несомненно, связано с образами эстетической основы бытия: «Если бы он не был уверен (как бывал уверен и при литературном творчестве), что воплощение замысла уже существует в некоем другом мире, из которого он его переводил в этот, то сложная и длительная работа… была бы невыносимой обузой для разума, допускающего, наряду с возможностью воплощения, возможность его невозможности». В этом контексте значимы и поиски «узора судьбы», соединившей Годунова-Чердынцева и Зину Мерц, и «мотивная структура» жизни Чернышевского, проявленная в книге Федора Константиновича, и, наконец, максимально книжная, подчеркнуто литературная образность «Дара»: «уже появилась, с неуловимой внезапностью ангела, радуга»; «а стояла она, сложив на мягкой груди руки, что во мне сразу развернуло всю литературу предмета, где была и пыль ведряного вечера, и шинок у тракта, и женская наблюдательная скука»; «у самой панели осталось радужное, с приматом пурпура и перистообразным поворотом, пятно масла: попугай асфальта»; «на доске звездно сияло восхитительное произведение искусства: планетариум мысли»; «на клумбе зыбились бледные с черным анютины глазки, личинами похожие несколько на Чарли Чаплина»; «эта запретная комната стала за последние месяцы болезнью, обузой, частью его самого, но раздутой и опечатанной: пневматораксом ночи». Своеобразным обобщением этого ряда образов становится тема текста бытия, книги жизни (и смерти), достаточно отчетливо звучащая в последних главах «Дара»: «Странное дело: в этой книге ни разу не упоминается о Боге» (последние слова Н. Г. Чернышевского); «А я ведь всю жизнь думал о смерти, и если жил, то жил всегда на полях этой книги, которую не умею прочесть». Впрочем, самым ярким воплощением этой метафоры становится сам роман: жизнь — благодаря «зеркальной» структуре, — уже ставшая книгой.
Напрашивается вывод о том, что свободное и очень личное творческое воображение, соединенное с кропотливым вниманием к подробностям жизни, и есть попытка реализации эстетического замысла бытия. В отличие от мистической и метаисторической сверхреальности символистов набоковское «некое настоящее» есть глубоко личная вечность, составившаяся из сугубо индивидуальных впечатлений от восхитительно подробной ткани жизни во всех ее, пусть даже самых прозаических, складках — вроде увиденного Федором зеркального шкафа, который при переезде на новую квартиру вдруг превращается в «параллелепипед белого ослепительного неба». И хотя Набоков демонстративно подчеркивает единичность, принципиальную невсеобщность того чувственного материала, из которого складывается его «некое настоящее», все же нельзя согласиться с П. Кузнецовым, уподобляющим Набокова герою новеллы Борхеса «Фунес, чудо памяти», который обладал потрясающим талантом созерцания и воспроизведения единичного, но категорически был не способен к обобщениям: «Дар Набокова во многом схож с даром Фунеса: он видел прежде всего бесконечное многообразие единичного, десятки и сотни деталей, восхитительных именно своей неповторимостью… Своеобразный гностический эзотеризм — да позволительно будет так обозначить то, что исповедовал Набоков…» [552]. Парадокс в том, что из материала сугубо личных впечатлений у Набокова складывается именно образ вечности, так сказать, «вечное настоящее», всеобщее в силу своей бесконечности. Причина в том, что набоковские детали бытия, «восхитительные именно своей неповторимостью», — эстетичны по своей природе. Именно их художественность и связывает их напрямую с эстетическим замыслом мира. Набоков недаром неизменно настаивает на том, что эстетическое наслаждение— это «особое состояние, при котором чувствуешь себя — как-то, где-то, чем-то — связанным с другими формами бытия, где искусство (т. е. любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма» [553].
Художественный замысел, таким образом, становится средством воплощения вечной фактуры жизни. И здесь нет противоречия, так как именно ценой вымысла оплачивается преодоление ограниченности бытия: а в данном случае прорыв к «настоящему» означает сугубо индивидуальную, единично-уникальную попытку преодолеть власть времени («времени нет»,) [554], раздвинуть конечный отрезок личного существования до бесконечности — ибо, как горделиво сказано в «Других берегах», «однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда». О том же, в сущности, повествует и притча о человеческом глазе из «Дара». Это и есть набоковский вариант противостояния смерти.
Логика эволюции дара Годунова-Чердынцева от сборника стихов о детстве, через попытку написать биографию отца — к книге о Чернышевском — это логика движения от себя к другому, не только не теряя при этом движении себя, но открывая и постигая свою личность с новой яркостью и силой. В стихах (глава 1) Федор Константинович, «с одной стороны, стремился обобщить воспоминания, преимущественно отбирая черты, так или иначе свойственные всякому удавшемуся детству: отсюда их мнимая очевидность; а с другой, он дозволил проникнуть в стихи только тому, что было действительно им, полностью и без примеси: отсюда их мнимая изысканность». Здесь безусловно присутствует дистанция — но это дистанция возраста, тут еще нет выхода за пределы личностной определенности. Известный герметизм чувствуется и в том, что рецензия на книжку оказывается несуществующей, — отсутствие взгляда извне вряд ли восполняется авторецензией Федора Константиновича.
Повествование об отце (глава 2) — это уже попытка диалога с другим, хотя и очень родным, сознанием. Во-первых, важно отметить, что само это повествование создается Федором Константиновичем в постоянном диалогическом контакте с матерью: «Спустя недели две после отъезда матери он ей написал про то, что замыслил… и она отвечала так, будто уже знала об этом». Во-вторых, Федор Константинович строит историю отца в непрерывном соотношении с пушкинским контекстом и ритмом — «так что вначале ритм пушкинского века мешался с ритмом жизни отца», — и множество нитей соединяет для Федора Константиновича судьбу и стиль жизни двух поистине родных для него людей, начиная с того, что «няню к ним взяли оттуда же, откуда была Арина Родионовна», и кончая тем, что отсутствие отца для Годунова-Чердынцева столь же значимо, как отсутствие Пушкина для России («Россия еще долго будет ощущать живое присутствие Пушкина»). В-третьих, сам Федор Константинович вступает в сложный диалог с личностью отца. С одной стороны, он проникается душой отца — и ярче всего это проявляется в том, что по ходу жизнеописания отца форма повествования — и точка зрения — незаметно меняется: и Федор уже описывает странствия отца от первого лица, он как бы перевоплотился в отца — но, в общем-то, это и естественно. «Мой отец, — писал Федор Константинович, вспоминая то время, — не только многому меня научил, но еще поставил самую мою мысль по правилам своей школы, как ставится голос или рука». Но с другой стороны, в процессе этого духовного диалога с отцом «авторизация личности» Годунова-Чердынцева достигает такой степени выраженности, что он уже чувствует, как его «я» заслоняет «я» отца, и поэтому останавливает работу над жизнеописанием: «Видишь ли, я понял невозможность дать произрасти образам его странствий, не заразив их вторичной поэзией, все больше удаляющейся от той, которую заложил в них живой опыт восприимчивых, знающих и целомудренных натуралистов».