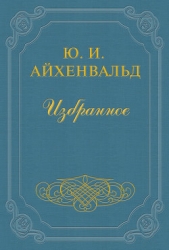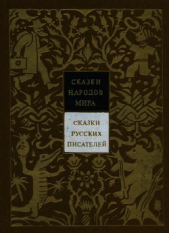Вступление к сборнику «Силуэты русских писателей»
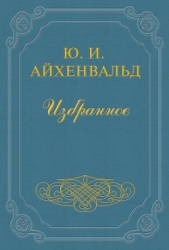
Вступление к сборнику «Силуэты русских писателей» читать книгу онлайн
«История художественной литературы не имеет своего философа, который подчинил бы эволюцию ее содержания каким-либо определенным законам и уловил внутренний смысл ее развития. В прихотливой смене идей, сюжетов и настроений, отличающей индивидуальное словесное творчество, не подмечены сколько-нибудь точно и доказательно господствующие и необходимые линии, и до сих пор только призрачными, а не реальными нитями связаны литературные факты с общественной средой, с особенностями исторического момента, со всею совокупностью культуры вообще…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В отмеченные рубрики едва ли не входят наиболее существенные и общие элементы русской литературы. И кажется, что из этого центра, из этой основной проблемы, которая формулируется как антитеза оседлости и скитальчества, природы и культуры, деревни и города, могут быть радиусами проведены другие важные темы нашей художественной словесности. Мы здесь укажем на некоторые из них, да и то лишь в самых беглых штрихах.
Природа, оседлость, приверженность к старому, почтительное отношение к традициям, деревня – все это создает идиллию, но в своем вырождении приводит к пошлости и омертвению души. Культура, скитальчество, неудовлетворенность прежним, трепетные искания духа, город – все это создает высокую драму, но при отсутствии слияния с природой, в случае оторванности от последней, неизбежно приводит к утомлению и психологии лишнего человека, к безумию и тоске.
«Слепой музыкант» нашей литературы Иван Козлов; пушкинское «они хранили в жизни мирной привычки мирной старины», это ларинское начало, «простые речи отца иль дяди старика, детей условленные встречи у старых лип, у ручейка»; «Старосветские помещики» Гоголя; Сергей Аксаков; тихая жизнь гончаровской Марфиньки; все то, что относится к безмятежной семейственности и миру в «Войне и мире» Толстого; еще не осыпавшийся вишневый сад Чехова; полковник Розов у Зайцева – вот несколько примеров того, что движется под приветливым знаком «Германа и Доротеи», того, что еще очень далеко от «Фауста».
Но чистые и мирные воды этого душевного озера не могут долго пребывать в своей привлекательной светлости. Постепенно берет свои права обыденное, ограниченное и от неподвижности блекнет остановившаяся душа. Обращаясь к цыганам, говорит Пушкин:
Есть нечто положительное в том, чтобы изжить свое внутреннее цыганство и перейти от него к жизни постоянной и сосредоточенной; но здесь начинается другая опасность – внутреннего оцепенения. Под покровом домашней тишины может поэта-романтикя Ленского постигнуть вторая из двух участей, которые предвидел для него Пушкин:
Сам Пушкин боялся этого охлаждения – больше всего пугал его призрак мертвой души; он сознавался, что в поэтический бокал свой воды он много подмешал, и вдохновению молился, своему таланту, источнику вечной жизни:
Разумеется, не только «свет», но и любой район существования таит в себе мертвый штиль, угрозу механизации духа. И вот, эти мертвые души, вырождение консервативной, центростремительной силы (которая сама по себе в интересах гармонии и равновесия жизни так же необходима, как и сила прогрессивная, центробежная), – мертвые души питали русскую сатиру. Старая, окостеневшая Москва Грибоедова; город Гоголя и Чехова (здесь, конечно, город – только внешняя форма жизни, а не момент психологический) и вся вообще изнурительная пошлость, явленная этими двумя писателями; казенное и казарменное, зло оцепеневшей государственности (у Щедрина, например); нравственно-неподвижные герои Островского, «Мелкий бес» Федора Сологуба… еще много и много темных иллюстраций можно было бы привести к этому горькому сюжету нашей словесности.
Иссякновение души русские писатели часто изображают как хозяйственность и приобретательство, как погоню за мертвыми душами, за тысячью душ (Писемский). Гоголевский Чичиков (и Плюшкин) многочисленное оставил потомство, и в ряду хозяев и дельцов земли русской находим Берга из «Войны и мира» Толстого, Лужина у Достоевского, Прохора Порфирыча у Глеба Успенского «честную чичиковщину» Молотова у Помяловского и либерального помещика Щетинина в «Трудном времени» Слепцова – тех вообще разнообразных «домостроителей-бобров» (выражение Фонвизина), которые так или иначе из-под сени «Домостроя» не выходили, чувствовали себя хорошо в тесноте и футляре «мещанского счастья», довольствовались осуществленным «крыжовником» Чехова и не только не «бросили в колодец ключей от хозяйства», а, напротив, как чеховский Лопахин, или его же Варламов, в деловой пляске хозяйственной заботы кружащийся по степи, или его же тетя Даша, или его же в своей хозяйственности преступная и зловещая Аксинья, тщательно оберегали их, лелеяли, – эти трагические ключи «Скупого рыцаря».
А те, кто к мертвой пошлости и приобретательству не приспособляется, кто поднимает свой голос против бездушной традиции, – те испытывают великую драму, горе от ума, «мильон терзаний», как Чацкий у Грибоедова, как все вообще носители гражданского протеста, как Рылеев, как герои Короленко.
Если же эти неприспособившиеся, духом своим отрешившись от внешней и внутренней обыденности, в то же время в избытке центробежной энергии решительно порвали с тем первоосновным, что лежит за обыденностью и в глубине ее, т. е. покинули в стремлении к чужбине и самую родину свою первоначальную, природу и стихийность вообще, то они и оказываются лишними людьми, не постигают, как Баратынский, «души употребленья» и не знают, что с собой делать. Их позвала культура, начало центробежное, но до ее высот, где она сливается с природой, началом центростремительным, они не дошли, синтеза не достигли, – и потому, в мучительной переходности, средине, между двумя берегами, бессильные, безвольные, без глубокого интереса к жизни, изнеможенные повторяемостью жизненных происшествий, с потушенными духовными огнями, идут они сиротливо по миру. Именно такое отсутствие природы, натуры, живой непосредственности, такой избыток (относительный) культуры, представляет самую характерную черту лишних, разочарованных людей, наших Фаустов и Гамлетов.
С этой точки зрения следовало бы рассмотреть все «лишнее человечество» русской литературы, начиная хотя бы с карамзинского Эраста или Эсхина (у Жуковского), про которого мы узнаем, что у него
Не такая ли же «скука, сменившая надежду», в разных переливах, но тою же безотрадной краской своею пишет и образы Фауста, Кавказского пленника, Алеко, Онегина у Пушкина, Печорина у Лермонтова, самого поэта вообще («мне скучно в день, мне скучно в ночь»), поколение его «Думы», только что названного Баратынского, Огарева, Тентетникова у Гоголя, Рудина и щигровского Гамлета у Тургенева, Череванина у Помяловского, гер-ценовского Бельтова, и многих, и многих других, и почти современных нам героев Чехова? И не те же ли мотивы слышатся в той игре под сурдинку, с которой можно сравнить лирику Надсона и Апухтина?
Какие бы причины для происхождения этих личностей, разнообразно варьирующих одну и ту же тему, мы ни пытались найти в специфических условиях русской жизни, все-таки последнее объяснение для типа лишних находится в глубине общечеловеческой психологии – именно все в той же разобщенности между природой и культурой, между непосредственностью и сознанием.
В этом же освещении надо бы рассмотреть и антитезу категорий хищного и смирного. Можно понять смирного как верного природе, ее безропотно продолжающего; хищный же – тот, кто своею сознательностью выделил себя из великого целого и свою личность чрезмерно утверждает на счет других, на счет остальных. Правда, хищность сама – явление природы; но есть большая разница между хищностью естественной, первобытной (дядя Брошка у Толстого), и тою, которая по преимуществу отмечена русской литературой. У наших писателей хищники – именно оторванные от естества, культурные: Алеко, Онегин, Печорин, Ставрогин, Долохов. Хищничество их особенно страшно тем, что оно оттеняется их внутренней мертвенностью. Есть разница между тем, как убивает живой и как убивает мертвый. Печорин, своим прикосновением все губящий, сам мертв. Такой и бывает хищность, отравленная и усугубленная отрешенностью от природы, – язвительная, жестокая, изысканная. Лермонтов, например, для которого амплитуда душевных колебаний определяется полярными образами Печорина и Максима Максимыча, ближе к природе не в демонизме своем, а именно в стихии простоты и примиренности. Нельзя возражать, что ведь хищные любят природу (так, Печорин только ее, а не людей любит): надо помнить, что свою любовь к природе замечают именно те, кто из природы уже вышел; а те, кто в ней, природой не любуются, пейзажей не замечают, как не любуются они собой и не сознают себя. И хищность так противоположна простодушной смиренности капитана Миронова, Максима Максимыча, капитана Тушина из «Войны и мира», князя Мышкина, Платона Каратаева. Но есть и здоровая хищность – например, тема конквистадора в мужественной поэзии Гумилева.