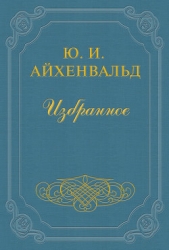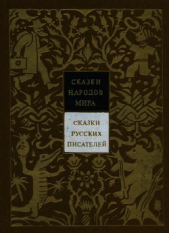Вступление к сборнику «Силуэты русских писателей»
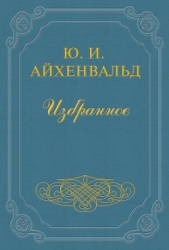
Вступление к сборнику «Силуэты русских писателей» читать книгу онлайн
«История художественной литературы не имеет своего философа, который подчинил бы эволюцию ее содержания каким-либо определенным законам и уловил внутренний смысл ее развития. В прихотливой смене идей, сюжетов и настроений, отличающей индивидуальное словесное творчество, не подмечены сколько-нибудь точно и доказательно господствующие и необходимые линии, и до сих пор только призрачными, а не реальными нитями связаны литературные факты с общественной средой, с особенностями исторического момента, со всею совокупностью культуры вообще…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Сердце, не испорченное умом», природу, не прерванную сознанием, славил Толстой как художник; но, подобно Кольцову с его «Думами», он сам от идей, от ума не уберегся. Как художник, он исповедовал, что в жизни все «образуется» ее и любви стихийной силой; но как мыслителю ему показалось этого мало, и он захотел жизнь осмыслить, уразуметь и уложить ее в рамки определенной религиозно-философской системы. Океан мировой сложности возмечтал он переплыть на утлой ладье теории. Он впал в интеллектуализм, он подчинился рационалистической традиции Сократа; великий натуралист, он этим сам изменил натуре и потерпел глубокое крушение.
Это – поучительное зрелище. Оно показывает, что Толстой весь, как художник и как мыслитель, Толстой, как цельная личность, не достиг синтеза между природой и культурой. Мы скажем еще раз, что такой синтез принципиально возможен. Ибо культура – закон природы. Кроме того: как и царство Божье, природа не вне нас, а внутри нас. И потому в самом разгаре культуры можно сохранить то непосредственное сердце, то живое чувство, те целомудренные мечты и неподкупные мысли, которые, по слов) псалмопевца и поэта, открывают доступ к Сиону и в то же время свой чистый источник имеют в недрах космического бытия.
Проблема культуры и природы одно из своих частичных проявлений находит в моменте города и деревни, которые надо понимать как два миросозерцания, две психологии.
И опять вспоминается «Бедная Лиза» Карамзина, и сама собою приходит мысль, что на «Сельском кладбище» Жуковского родилось особое народничество – на том «смиренном кладбище», про которое так любовно говорит Татьяна Пушкина, поминая свою бедную няню. Любил встречать Лермонтов «дрожащие огни печальных деревень», и смирялась души его тревога, когда волновалась желтеющая нива и свежий лес шумел при звуке ветерка. Под «хранительный кров» деревенской тишины приходил задумчивый Гамлет – Баратынский. Поэзия Кольцова – деревня русской литературы, и не только одно его известное стихотворение, но почти все его творчество – песня пахаря. В простоте деревни, в атмосфере ее честности, много заграничного отпадало от Тургенева, и тогда расстилался перед нами «Бежин луг». Повторять ли, что в духовной и физической деревне, в мире догородском, в изначальной первобытности, глубочайшими фибрами своими пребывает художник Толстой? Мечется Некрасов между городом и деревней, и все время происходит в нем борьба двух соперниц – Невы и Волги; из петербургских туманов, из ужасов и безобразий, которые плывут и сплываются в столичной мгле, из городского кошмара черпает он свои вдохновения, – но первее в нем стихия кольцовская, и тянет его за город, я все, что есть в его поэзии настоящего, неподдельного, живого, – все это создано красотою нив хлебородных, дуновением русской стихии, «каплей крови, общею с народом»; и так выразительно звучит:
В деревне, конечно, живут своими помыслами писатели-народники; но характерно, что они уходят туда из города: им люба деревенская ночь потому, что она, как страшно выражается Глеб Успенский, «смиловавшись над измученными нервами, по которым столичный день, как полупьяный тапер на разбитом инструменте, колотит с утра до ночи, закрывает, наконец, крышку инструмента и ни единым толчком не трогает избитых струн». И как раз потому, что народники идут вослед народу, они вынуждены, как, например, Левитов, возвращаться из деревни в город: ведь несчастные толпы городского пролетариата пополняет собою деревня, и в одну печальную русскую категорию объединяется «Горе сел, деревень и городов»…
Бесконечно далек от деревни, от ее спокойствия, Достоевский. В лихорадочном бреду, как Раскольников, бродит он по Петербургу, объятый своей безумной ночью, и воспроизводит потом на своих страницах мрачную поэзию города. Вообще, творить образы из городского безобразия, находить в нем оригинальную, хотя бы и жуткую красоту – это в России, до Верхарна на Западе, уже делали Некрасов и Достоевский, это в наши дни продолжал Брюсов и это служило одной из тем Андреева с его «Проклятием зверя». В утончившейся красоте рисуется деревня, ее пейзаж, в стихах Бунина, который знает Русь-rus, и в прозе Зайцева. Гнет города повис было на крыльях такой по преимуществу лирической поэзии, какая связана с именами Блока и Виктора Гофмана.
В гармонии Пушкина, в его претворяющем духе, город и деревня внутренне сблизились между собою и дана перспектива их будущего психологического союза. Знаменитая характеристика города, вложенная в уста Алеко («когда б ты знала, когда бы ты воображала неволю душных городов…»), содержит в себе уже все то, что заключается в противоположении города и деревни, культуры и природы. В частности, к Петербургу, но не только к русскому Петербургу, относятся эти убийственные слова:
И юноша, который, казалось бы, городу блестящему должен был бы протягивать свои объятия, говорит, настойчиво говорит деревне: «Я – твой».
«Деревня, где скучал Евгений» для Пушкина была прелестный уголок – недаром поэт всегда был рад заметить разность между Онегиным и собой. Пушкин был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины; в глуши были ему звучнее голос лирный, живее творческие сны.
Но потом он воспел задумчивые белые ночи Петербурга и того, кто построил его, и понял всю поэзию города, – он полюбил Петра творенье. Татьяна, вся деревенская, с приметами и суевериями, как в родной стихии чувствующая себя в преданиях простонародной старины, – она, эта лесная лань, дикая, печальная, молчаливая, изнывала, когда ее привезли в город:
И что же? Татьяна все-таки сумела остаться самой собою в шумной суете города, в вихре света; она была естественной среди искусственного, она в атмосфере «утеснительного сана» вела себя так, как если бы дышала ею всю свою жизнь. И в то же время: «кто прежней Тани, бедной Тани теперь в княгине б не узнал?». Не знаменательно ли, не символично ли, что родная дочь Пушкина, самое любимое его дитя, глубиною своего духа намечает путь к сочетанию обеих стихий, города и деревни? Правда, всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск, и шум, и чад она сейчас отдать бы рада за полку книг, за дикий сад, за деревню свою излюбленную, – но это и есть та неизбежная, та вечно первая тоска по родине, по земле, та естественность и стихийность, которая и делает культуру только продолжением натуры и на почве которой только и может возникнуть образованность истинная, не мишурная. Лишь из деревни вырастает город, и лишь тогда он представляет собою нечто органическое и нужное. Обратим внимание на то, что Татьяна, природная, но не элементарная, ищет не только дикого сада, но и полки книг. Она стремится «к своим цветам» – и «к своим романам». Дика, печальна, молчалива, она, однако, читает. Читающая дикарка, наперсница природы и романов, княгиня естественная, она в удивительное единство своей кристальной души претворила живую непосредственность деревни и все искусство города, городской литературы, всяких Ричардсонов и Руссо. И этой несравненной цельностью своею она и поныне сияет, как прекрасная человеческая звезда.