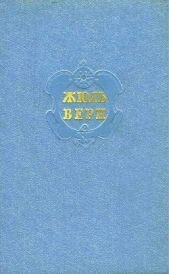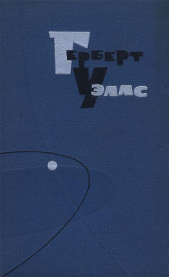Собрание сочинений. Т.25. Из сборников:«Натурализм в театре», «Наши драматурги», «Романисты-натурали

Собрание сочинений. Т.25. Из сборников:«Натурализм в театре», «Наши драматурги», «Романисты-натурали читать книгу онлайн
В данном 25-м томе Собрания сочинений представлены наиболее значительные из работ Золя, входящих в его сборники «Натурализм в театре», «Наши драматурги», «Романисты-натуралисты» и «Литературные документы». Почти все статьи, из которых были составлены сборники, публиковались в периодической печати в промежутке с 1875 по 1880 год. При составлении сборников Золя игнорировал хронологию написания своих статей и группировал их по тематическому признаку.
Каждое выступление Золя в периодической печати по вопросам литературы и театра носило боевой характер, было актом борьбы за утверждение тех принципов, которым он был предан, ниспровергало враждебные ему традиционные эстетические нормы.
Одной из важнейших целей Золя было доказать, что провозглашенный им художественный метод натурализма отнюдь не нов, что он также опирается на значительную национальную традицию французской литературы и французского театра. Отсюда — экскурсы Золя в прошлое, его настойчивые поиски родословной натурализма в минувших веках.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Можно было опасаться, что после восемнадцати лет безраздельного владычества почитание монарха уменьшится, особенно со стороны молодого поколения. Но Виктору Гюго удача суждена была и здесь. Нанеся ему удар, судьба осыпала его своими милостями: в ту самую пору, когда от избытка счастья его могущество могло пойти на убыль, она сделала его изгнанником, и из короля он мгновенно превратился в божество. Это отнюдь не парадокс. Разве изгнание и в самом деле не возвысило Виктора Гюго? Разве, выслав его за пределы Франции, Империя не поставила его тем самым на незыблемый пьедестал гернсейской скалы? Надо перенестись в эти годы, чтобы понять, на какую высоту вознесся поэт в отдалении. Всем нам, двадцатилетним юношам, он представлялся закованным в цепи колоссом, который продолжает петь и песни среди бурь и ненастья; он был Прометеем, сверхчеловеком, он словно парил над Францией, всматриваясь в нее издалека своим орлиным взором. Иногда казалось, что ветер доносит к нам несколько его страниц, и тогда мы жадно набрасывались на них, мы их проглатывали и считали, что мы тоже чем-то содействуем победе над тиранией. Этот поэт, с такой яростью клеймивший режим Империи, в конце концов снискал ее же почтение. Когда «Легенда веков» и «Отверженные» вышли в свет, они были встречены криками восторга, и похвалы этим произведениям можно было прочесть даже в газетах, безраздельно преданных династии. Остров Гернсей стал местом паломничества. Изгнание Виктора Гюго вознесло его до небес.
Но этого мало. На глазах у насторожившейся Европы, на глазах у негодующих народов и трепещущих монархов простой поэт вступил в единоборство с самим императором. Изгнанный Наполеоном III, швырнув в лицо державному владыке всю грязь, что прилипла на чужбине к его башмакам, Виктор Гюго, оставаясь спокойным и сильным, ждал краха своего противника; и это невозмутимое упорство, эта вера в конечную победу уже сами по себе сотрясали трон. Императору часто приходилось с тревогой думать о человеке, который там, на своей скале, настороженно ждет, когда он совершит роковую оплошность и будет наконец повержен во прах. Кто же из них одержит верх, которому из двух суждено умереть на чужбине? Но вот наступил день, и поэт победил. Император, в свою очередь, был изгнан и нашел прибежище в Англии, а поэт, встреченный ликующими толпами, с триумфом возвратился на родину. В этом грандиозном поединке выстоял поэт.
Разве это не чудо и не кажется ли, что какой-то волшебный церемониймейстер, питавший к поэту особое пристрастие, определил различные этапы его жизни? Когда уже казалось, что публика устала им восхищаться, происходило очередное чудесное превращение и начинался новый период его славы. Если когда-нибудь те или иные произведения Виктора Гюго изгладятся из памяти потомства, то жизнь его останется для человечества одним из самых прекрасных примеров. Ни одному завоевателю, ни одному властелину не суждено было в такой мере, как ему, насладиться своим могуществом.
Однако должен сказать, что после возвращения Виктора Гюго в Париж более великим он уже не стал, и это оказалось для поэта роковым. Он стоял слишком высоко на своей скале, чтобы возвыситься еще. Вновь очутиться среди нас, на наших пыльных, грязных тротуарах, в наших заурядных жилищах, для него, который укрощал стихию и представлялся нам неким Исаией, пророчествующим среди бурь, было почти равносильно падению. Кроме того, Виктор Гюго не мог не возвратиться к будням политической борьбы, а политика мельчит поэтов, вовлекает их в повседневные людские заботы — они пытаются расширить ее границы, внести в нее беспредельность своих благородных чувств, а на деле вызывают лишь улыбку. Я не собираюсь рассматривать здесь Виктора Гюго как политического деятеля; это выходит за рамки моей темы. Гюго-политика никогда не принимали всерьез. Я не сужу, я констатирую факт — не больше. Роялист в 1820 году, либерал и сторонник Конституции в 1830, умеренный республиканец в 1848, крайний республиканец в 1850, он шел путем, которым ему следовало идти, и с 1871 года стал библейским апостолом демократии. Гюго поставил себя вне доктрин и вне реальной действительности. Он ратует за счастье человечества, упуская из виду человека. Он провозглашает вселенскую Республику так, словно, подчинившись ему, стихии сотворят новую землю и новых людей. С точки зрения эстетической нет ничего грандиознее этой прекрасной мечты. Но практически в ней есть что-то ребяческое. Порою он смущал даже самих республиканцев — причем я говорю о наиболее убежденных, наиболее рьяных из них. Они предпочли бы, чтобы он ни во что не вмешивался и довольствовался ролью гения. Словом, республиканцы смотрели на великого поэта как на почетного политического деятеля. Его выставляли вперед для декорума, ради его громкого имени. Роль его сводилась к роли королей в опере, которые иногда появляются, увенчанные короной и в пурпурной мантии, только для того, чтобы величественно проследовать по сцене.
Вообще же из четырех периодов жизни Виктора Гюго — столь ранней и столь праздничной юности, литературного царствования в Париже, изгнания, озаренного ослепительным блеском славы, и венценосной старости здесь, среди нас, — самым ярким, безусловно, был период изгнания. Необыкновенная судьба — вот что сделало Виктора Гюго тем исполином, в котором толпа видит величайшую фигуру нашего столетия. Он был не единственным гением; но обстоятельства позаботились об обрамлении, причем создали для него самую изумительную рамку, о какой только может мечтать человеческое тщеславие.
Я сказал, что Виктор Гюго сформулировал принципы романтизма. Редко случается, а то и вовсе невозможно, чтобы один человек создал литературное направление. Оно складывается исподволь, пускает корни постепенно, долгое время развивается подспудно и только потом выходит на поверхность. Между умирающей школой и школой нарождающейся никогда не происходит внезапного разрыва: между ними имеется множество промежуточных ступеней, бесконечно тонких, едва уловимых связей; то, что появится завтра, уже зреет в том, что существует сегодня, и будущее не в силах полностью порвать с прошлым: различные периоды в развитии той или иной литературы как бы связаны друг с другом, подобно звеньям единой цепи. И только тогда, когда новое направление готово вот-вот утвердиться, приходит человек, который властно возводит в закон то, что едва нащупывали его предшественники, который собирает воедино и отмечает печатью своей личности идеи, уже носившиеся в воздухе его эпохи. Именно такую роль сыграл и Виктор Гюго. Он громогласно утвердил то, что одно или два поколения до него видели в самых общих чертах и к чему они робко стремились. Старое здание классицизма разваливалось уже годами, и он стал тем разрушителем, который является в последнюю минуту, когда достаточно одного легкого толчка. Собственный гений предназначал его к такой роли. Вот почему предшественники и современники Гюго пострадали от соседства с этим победителем: победу-то он одержал не в одиночку, а лавры ее достались ему одному; так люди чтят память великих полководцев, между тем как уделом погибших солдат становится забвение.
Литература не знает прогресса, в литературе есть только изменения. Одна литературная школа может быть шагом вперед по сравнению с другой школой, но это вовсе не обязательно сказывается на литературных произведениях. И дело здесь в той могучей роли, какую играет в искусстве человеческая индивидуальность. Разумеется, если бы в художественном произведении все определялось его соответствием действительности, то тогда искусство прогрессировало бы вместе с наукой, а произведения искусства оказывались бы тем значительнее, чем они были бы правдивей. Однако тут неизбежно вторгается личность художника, и жизненная правда тотчас становится одной из двух составных частей формулы. И тогда история той или иной литературы представляется нам в виде длинного фриза, перед нашим взором как бы проходит вереница выдающихся людей, каждый из которых произносит свое слово: порою воспламеняется ум и царит воображение; порою пробуждается логика, верх одерживает кропотливое изучение людей и явлений. Надо добавить, что эти перемены зависят от общественных условий, — литература следует за историей народа. Я, таким образом, стою вот на какой точке зрения: любая литературная формула сама по себе правильна и закономерна, достаточно того, чтобы ею воспользовался гений; иными словами, формула — это не более чем музыкальный инструмент, предоставляемый исторической и социальной средой, и красота его звучания зависит в первую очередь от того, насколько умело владеет им художник. Формула есть нечто заранее данное, — вот что надо уразуметь. Корнель вовсе не изобрел трагедию, он ее нашел и расширил ее возможности. Виктор Гюго не изобрел романтическую драму, он просто-напросто присвоил ее себе. Сосуд может быть более или менее удобным для наполнения: гений всегда сумеет вместить в него одинаковое количество красоты. Меняются лишь внешние формы, человеческий же труд остается, по сути, неизменным. Так следует воспринимать все великие произведения — древние и новые, иностранные и отечественные, — рассматривая их в их собственной среде и видя в каждом из них высшее проявление художественного гения в определенную эпоху.