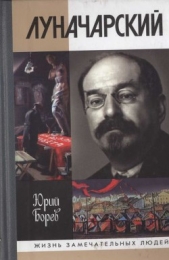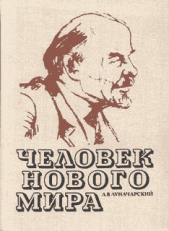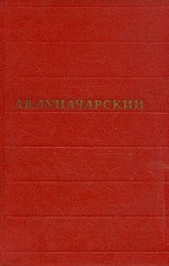Том 7. Эстетика, литературная критика
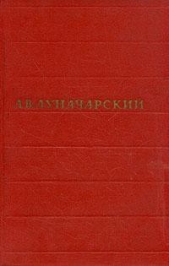
Том 7. Эстетика, литературная критика читать книгу онлайн
В восьмитомное Собрание сочинений Анатолия Васильевича Луначарского вошли его труды по эстетике, истории и теории литературы, а также литературно-критические произведения. Рассчитанное на широкие круги читателей, оно включает лишь наиболее значительные статьи, лекции, доклады и речи, рецензии, заметки А. В. Луначарского.
В седьмой и восьмой тома настоящего издания включены труды А. В. Луначарского, посвященные вопросам эстетики, литературоведению, истории литературной критики. Эти произведения в таком полном виде собираются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Гаузенштейн продолжает: «Эта логика имеет особенности организации коллективистической первобытной демократии. Общества эти живут, так сказать, эгалитарным ритмом. Принадлежность великому сверхличному целому абсолютно доминирует над такой литературой. Произведения искусства являются произведениями нивелированного, ассоциативного, коллективистически организованного восприятия мира».
В своем маленьком труде, о котором я сейчас говорю, Гаузенштейн начинает именно с этой стадии, но в большой своей работе «Искусство и общество» он, так сказать, глубже этой коллективистической эпохи видит анархическую эпоху плохо организованных бродячих родов, может быть, даже разрозненно живущих охотничьих семейств, которые создают полярно противоположное искусство палеолитического периода, именно охотничий импрессионизм с его необыкновенно живо и точно схваченными образами животных, переданных с непосредственностью гениального ребенка.
«Постепенно, — говорит Гаузенштейн, продолжая линию своих размышлений, — образуется искусство, в котором вещное различение начинает играть известную роль. В Германии, например, этот процесс происходит в веке Меровингов. Век же этот представляет собою не только новый, неслыханный модус взаимоотношений художника и вещи, но также и элементарный переворот экономических базисов общества. Период Меровингов представляет собою эпоху начала гибели старого германского аграрного социализма. Тотчас же внимание художника начинает все более и более устремляться на человека. Конечно, изображение человека появляется еще в высокодисциплинированном порядке, так сказать, прокладывает путь через социально организованные рамки стиля, но только потому, что относительная сила старой демократии еще сказывается».
Здесь я позволю себе в детали не согласиться с Гаузенштейном. Дело в том, что социальная стилизованность не связана непременно именно с коллективистической демократией, а вообще со всякой высокой формой общественной организации, скажем, с чрезмерно подавляющей личность формой, и вряд ли можно, например, доказать, что громадная стилистическая законченность египетского или ассирийского искусства была результатом коллективного первобытно-социального порядка. Мы ничего не знаем ни о каком стиле демократии в этих странах, по крайней мере в тех средах и классах, из которых художники выходили и которым они служили, но мы знаем о чрезвычайно строгих иерархически организованных государствах. Поэтому строгость феодального искусства происходит далеко не только из зависимости его от форм прошлого, но и вообще постольку, поскольку искусство в эту эпоху, являясь государственным или крупнообщественным (церковь, община), выражает как раз те элементы феодального общества, которые являются строго дисциплинированными, иерархически организованными.
Третья эпоха начинается, по мнению Гаузенштейна, когда зарождается культура городских обществ. Здесь, утверждает Гаузенштейн, человек и вещь приходят в наибольшее соприкосновение. Это положение нуждается в маленьком разъяснении. Могут спросить, неужели старый германец или наш русский крестьянин не приходит в соприкосновение с вещью? Приходит, но художественно он воспринимает ее через определенную традицию; и вы не найдете во всем крестьянском искусстве, вплоть до нынешнего (посмотрите, например, превосходную крестьянскую выставку в Историческом музее в наши дни) 17, где крестьянин изобразил бы корову или собаку или избу так, как он ее видит. Она кажется ему интереснее и приемлемей сквозь ту художественную традицию первоначально коллективистического характера (в психологическом смысле), которая придает огромную художественную законченность всему, выходящему из рук анонимного художника-крестьянина. В том-то и дело, что первобытный крестьянин или крестьянин, оставшийся близким к первобытности, не ставит себя в индивидуально-оригинальные, пластически-изменчивые отношения к вещи, а всегда в традиционно установленные, как деды жили, как до нас устраивали.
Горожанин, может быть, даже меньше соприкасается с вещью, так как он удален от природы и гораздо больше окружен, так сказать, артефактами [159], но, благодаря индивидуализированному и построенному на эмоции торговому и ремесленному жизненному укладу, он должен присматриваться к каждой индивидуальной вещи и искать постоянно новых к ней отношений. Здесь начало реализма, натурализма и импрессионизма последовательно. Люди и вещи, говорит Гаузенштейн, начинают портретироваться, начинается тяга к сходству. Гаузенштейн отмечает дальше жадное любопытство века к вещам.
«Фигурные представления романской и раннеготической художественной культуры гораздо больше насыщены Психеей. Даже самый ранний орнамент объективно, а может быть, и в субъективном смысле, психологически гораздо подвижнее, чем внешне столь разнообразное искусство буржуазии конца века».
Конечно, в этом утверждении Гаузенштейна никак нельзя видеть противоречия. Индивидуальность выступает на первый план. Индивидуальность бюргера конца средневековья гораздо богаче ощущениями. Она воспринимает мир не как какой-то причудливый сой, а критически разбирается во всех его деталях, но тем не менее она площе и беднее, чем индивидуально менее ярко выраженный общественный человек предшествующей эпохи, который жил грандиозным мифом, созданным взаимотрением природы и целых поколений человеческих существ. Искусство Возрождения есть искусство века, живущего под победоносным знаменем развития буржуазного товарного производства. Окончательно сделалось ясным, что целью жизни является проштудировать вещь во всех ее свойствах, для того чтобы понимать ее, для того чтобы овладеть ею. Этому служит сознательно или бессознательно и художественное воплощение ее. Только тогда, когда буржуазное богатство закреплено, человек и художник с братьями Эйками и Тицианом опять начинают отходить от вещи, опять начинают получать возможность организовать ее, и мы находим проявление торжественного стиля, праздничной пышности.
«Конечно, в основе нового буржуазного искусства, — говорит Гаузенштейн, — лежит элемент демократии, но эта новая демократия есть полная противоположность первобытной коллективистической демократии». И пустяки говорить, что отличительной чертой этой демократии, ее отличием от коллективистической является суверенитет личности. Неправда. «В основе этой демократии лежит суверенитет вещи. Триумфом и апогеем этого устремления искусства является картина Рембрандта, в которой в стиле буржуазного героизма нарисована только что освежеванная туша быка».
«Основанное на сходстве голландское пейзажное искусство есть также изумительное выражение буржуазной культуры. Это адекватное выражение либерального мира. Здесь веет духом пантеизма, спинозизма, но в основе все-таки лежит свойственный буржуазии физиологический материализм. Это искусство общества, которое верит в натуру вещи и считает наилучшим делом религиозно и философски и художественно проникнуть в эту неосязательную, объективно данную природу вещей».
Ну, а портрет? — спрашивает себя Гаузенштейн (Гальс, Рембрандт). С портретом мы вступаем в область остро индивидуализированного искусства, где человек действительно начинает выдвигаться на первый план.
Гаузенштейн связывает его с меркантилизмом, как историческим перекрестком старого феодализма и буржуазной демократии. Идеологическое отображение меркантилизма есть барокко.
Поясним. В конце XVI-го или в XVII-м веке буржуазия, расшатавшая устои католической церкви и феодальной империи, на минуту вырвавшаяся на простор почти полного индивидуализма (см., например, анализ Якова Буркхардта) 18 и тем самым отдавшая себя на служение вещи, вернулась к государственной организации и к укреплению церкви, не столько в силу угрозы со стороны общественных низов, которую, однако, отрицать нельзя, сколько в силу другой болезни [160], диктующей буржуазии дисциплину, именно — стихии международных отношений и необходимости борьбы за рынок большими дисциплинированными объединениями. Торговый капитал, вместо мелких единиц Генуи, Флоренции и т. д., начинает устремляться к организации великих держав, и сейчас же идея дисциплины, преданности отечеству, церкви и т. д. начинает возникать. Вместе с тем самой природой этого нового государственного коллективизма является торговля с ее свободой, с ее авантюризмом и т. д. Отсюда грандиозность объединяющей формы при беспокойстве отдельных деталей. Отсюда острый интерес к своей и чужой индивидуальности при начинающемся господстве моды и стремления социальной личностью покрыть свою конкретную индивидуальность. Все это как нельзя лучше отражается в барокко и в великом портрете бароккистов.