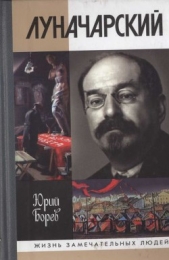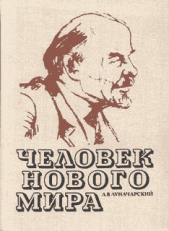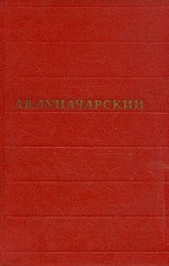Том 7. Эстетика, литературная критика
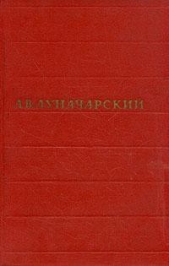
Том 7. Эстетика, литературная критика читать книгу онлайн
В восьмитомное Собрание сочинений Анатолия Васильевича Луначарского вошли его труды по эстетике, истории и теории литературы, а также литературно-критические произведения. Рассчитанное на широкие круги читателей, оно включает лишь наиболее значительные статьи, лекции, доклады и речи, рецензии, заметки А. В. Луначарского.
В седьмой и восьмой тома настоящего издания включены труды А. В. Луначарского, посвященные вопросам эстетики, литературоведению, истории литературной критики. Эти произведения в таком полном виде собираются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Времена, не имеющие великой литературы, — это времена распада, приниженности духа. Дело поэтому не в том, что искусства изобразительные от времени до времени попадают в объятия литературы, а от времени до времени от этого освобождаются, что якобы является плодом эмансипации, такое время, когда А. Я. Таиров может говорить об освобождении театра от литературы, Малевич — об освобождении живописи от сюжета и т. д. и т. п., притом в виде как бы всеобщего изучения для каждой данной частной области 15, — а в том, что многосодержательная эпоха приближает все искусство к типу литературы, как наиболее содержательному из всех искусств. И наоборот, бессодержательные эпохи самую литературу превращают в игру слов (вплоть до заумности) и все остальное искусство в отрывчатое, [бесцельное и все более бесформенное баловство], в какие бы метафизические одежды святости и чистоты и т. п. его жрецы ни одевались.
С другой стороны, совершенно прав Гаузенштейн и в своем суждении о противоположном полюсе нашей эстетики. И в противоположной теории провозглашаемого филистером принципа искусства для искусства лежит смысл противовеса. Искусство есть нечто формальное. Оно достигает вершины своей логики там, где достигнута высочайшая мера формального совершенства.
Однако это определение не точно. [И Гаузенштейн дает более широкую формулу: ] «Искусство законченно там, где оно дает наиболее чистое выражение жизненной полноте своего времени. Там же приобретает оно и самую чистую формальную эквивалентность. Искусство бывает на высоте своей существенности там, где давление жизненности эпохи превращается как бы в самодовлеющую форму».
Я бы сказал, что нельзя лучше выразить той мысли, которой и я придерживался, если бы, может быть, не некоторая нечеткость отдельных деталей. Но смысл идеи Гаузенштейна совершенно верен. Пойти по наклонной плоскости требовании от художника прежде всего утилитарного или, выражаясь более красивым словом, хотя бы, скажем, и пророческого содержания при небрежном отношении к форме, — значило бы, разумеется, отказаться от искусства как такового. Ибо непосредственное влияние, взаимное влияние отдельных жизненных социальных содержаний друг на друга может происходить и происходит самыми разнообразными путями. Специфичность того пути, который называется искусством, заключается именно в огромной и своеобразной силе выразительности. Эта сила выразительности и есть форма. Стало быть, силу художника мы оцениваем и в непосредственном эмоциональном суждении об его произведении, и в критическом его взвешивании по той степени мощи, какую выражаемые идеи или чувства приобретают в его руках как художника.
Отсюда ясно, что все чистохудожественные и формальные проблемы приобретают колоссальный интерес. И с этой точки зрения всякое пренебрежение чистохудожественным, специфическим, я бы сказал, техническим вопросом искусства является признаком варварства и упадка. Как же только те или другие бекмессеры 16 начинают воображать, что, держа одежду Елены, они обладают ею самою, и, запутавшись в формальных вопросах, перестают понимать, что они имеют значение только как выяснение законов выразительности и как приобретение технической силы выразительности, как только они начинают забывать, что при отсутствии того, что выразить-то надо, мы получили все-таки кимвал бряцающий, — так сейчас же мы впадаем в противоположное варварство, и уже сейчас можно сказать, что первые эпохи суть эпохи недозрелости определенных социальных групп, их выражающих, а вторые — их перезрелости.
Наконец, из этой первой главы книжечки Гаузенштейна я хотел бы привести еще следующую, по моему мнению, чрезвычайно глубокую выдержку.
«Если определенная общественная культура признает известное содержание за достойное художественного выражения, то этим, по существу говоря, утверждена первая принципиальная формальная позиция по отношению к действительности».
Это прекрасно сказано. Если бы, например, вместо всякой суетни и мышиной возни насчет новых форм было социально возможно, чтобы известные интересы и идеи оказались, так сказать, полубессознательно признанными устоями всего дальнейшего бытия, если бы был произведен таким образом первоначальный отбор глубоко значительного от незначительного, то сразу началась бы та элементарная конструкция в области искусства, которая знаменует собою эпохи, предшествующие эпохам великого расцвета.
Здесь, мне кажется, нужно сказать еще два слова в пояснение. Например, в переживаемую нами в Германии и России эпоху на первый план общественности выступает пролетариат. На первый взгляд кажется чрезвычайно легким это выделение достойного художественного преображения момента нашей жизни и нашей идеологии: революционная борьба, труд на заводе и т. д. На самом же деле это совершенно мертвенные акты, из которых художник [158], являясь еще незрелым выразителем своего общества, просто механически берет наиболее, так сказать, навязчивые темы, которые, в сущности говоря, не нуждаются в художественном претворении, как не нуждается в художественном претворении воздух, которым мы дышим.
Гораздо более тонким и гораздо более таинственным, я бы сказал, процессом приходит эпоха к выдвиганию на первый план большого комплекса идей и чувств, которые, с известной натяжкой и пользуясь старым термином, можно назвать религией наступающей эпохи. Школа романтическая во Франции, в Германии и в Англии имела, например, такой основной материк, из которого исходила раньше того школа классическая и т. д. Еще более блестящим примером может служить цикл идей и чувств, из которых исходила античная литература, в особенности трагедия или хор, в котором вращались елизаветинцы, великие испанцы и т. д. Такие, выделяемые из всего окружающего, иногда трудно поддающегося формулировкам, социально-психологические комплексы чрезвычайно разнообразны. Их искусно умел подметить Тэн, и в этом отношении историку искусства, марксисту, приходится во многом у него поучиться.
У Гаузенштейна есть также прекрасный пример этого выделения первоначальной базы формально-художественного отношения к действительности, выделения этого основного мирочувствования, на почве которого могут происходить потом даже горестные конфликты отдельных художников, без нарушения, однако, своеобразной целостности. Единство стиля при этом возникает со стихийной силой почти одновременно с возникновением этих социально-психологических доминант.
Я приступлю теперь к краткому изложению тех основных фундаментальных камней в социологии искусства, которые Гаузенштейн самостоятельно закладывает.
«Мы видим, — говорит он, — что примитивный коллективизм аграрной демократии, например, старых германцев или древнеяпонских рисовых крестьян, совершенно не имеет никакого интереса к вещам и относится к ним как бы без понимания. Эти люди попросту не видят ничего, не видят пейзажей, едва замечают животных и растения. Эти последние представляются им скорее импульсами для формальных преображений, чем действительными существами».
Искусство, находящееся в глубочайшей связи с этой социальной культурой, есть искусство орнамента. Примитивный тип художника, это — мастер орнамента, в высочайшей степени бессюжетного.
Здесь я должен сделать маленькое замечание, чтобы читатель избег выводов, в которые Гаузенштейн сам не впадает. Не надо думать, что беспредметность первобытного или даже более высокого кельтского или перуанского орнамента есть действительная беспредметность. Наоборот, в корне их всегда лежит предмет, имеющий притом же религиозное, мистическое значение, но преображенный в процессе многовековой стилизационной сверхиндивидуальной работы поколений. Стало быть, ничего общего с нынешней бессюжетностью, а нечто почти прямо ей противоположное. Зато, если хотите, нечто весьма родственное, на первый взгляд, скажем, кубизму.