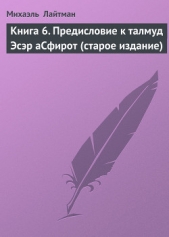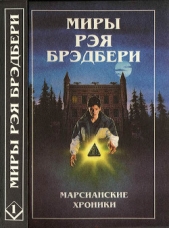Кротовые норы
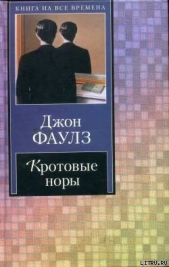
Кротовые норы читать книгу онлайн
«Кротовые норы» – сборник автокритических эссе Джона Фаулза, посвященный его известнейшим романам и объяснению самых сложных и неоднозначных моментов, а также выстраивающий «Волхва», «Мантиссу», «Коллекционера» и «Дэниела Мартина» в единое концептуальное повествование.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Именно этой несентиментальной стороны и не хватает, по-моему, многим последователям Бьюика в XX столетии. Они, возможно, и равны ему по мастерству и технике, однако же в честности очень редко кто может с ним сравниться! Их работы увековечивают мечту о сельском рае бесчисленных благородных интеллектуалов жестокого XX века, истинными предшественниками которых были такие художники-эскейписты XIX столетия, как Морланд 466и Биркет Фостер 467– создатели уютного мифа о довольном своей жизнью обитателе сельского коттеджа, о некоей скромной сельской идиллии, – потакая вкусам тех, главным образом горожан, кто предпочитает игнорировать мрачноватую сельскую жизнь и экономику. Над ними довлеет слишком сладостная мечта, любовно-ностальгический и чрезвычайно удобный интерес к прошлому, к полузабытой традиции, а также – желание плыть по течению. Мне кажется, это наиболее характерно для английского среднего класса – этакий особый, привилегированный способ действовать так, чтобы всегда стараться доставить людям удовольствие, но ни в коем случае не пытаться их шокировать или переубедить.
Я не хочу сказать, что epater les bourgeois (то есть эпатировать буржуазию) – занятие более благородное; кроме того, само по себе занятие это далеко не так уж благотворно сказывается на творчестве. XX век дал самые разнообразные тому свидетельства во всех видах искусства; особенно это заметно, когда техническое мастерство и знания ремесла и среды в лучшем случае иррелевантны, а в худшем – являются доказательством реакционной политики. Тем не менее, по-моему, это не та эпоха, когда чистая традиция даже в совокупности со всем мастерством мира может оказаться достаточной. Она, безусловно, достаточна для всех народов мира как в коммерческом, так и эстетическом смысле, но совершенно недостаточна ни в одном из видов искусства, которые основаны на наших взаимоотношениях с природой. Эти взаимоотношения никогда не были особенно хороши, а теперь они пребывают прямо-таки в плачевном состоянии, и я не представляю себе, как вежливая, традиционная, «классическая» практика, сложившаяся в области этих взаимоотношений, может и впредь соответствовать понятию «серьезный художник». Подавляющее большинство представителей нашего вида живых существ убивают природу и уничтожают естественный природный ландшафт по всему миру, и хоть какие-то отражения этого процесса необходимо увидеть всем.
Вот это-то как раз я и вижу – и все чаще и чаще! – в работах Фэй. Она называет это документальным реализмом; я бы скорее назвал это творческой честностью, принимая во внимание, что традиционная прекрасная сторона ее творчества, столь ярко проявившаяся в «Развалинах Элмета» (1979), порой просто как бы отставлена ею самой в сторону. Именно так, с моей точки зрения, Фэй становится фотографом, делающим нечто очень важное, а не просто одаренным от природы.
Слово «landscape» («ландшафт, пейзаж») впервые появилось в английском языке в конце XVI века. Оно пришло к нам из голландского языка, где слово «landschap» означает «провинция, район, местность» и сперва звучало по-английски как landskip 468; это невольно наводит на мысль, что и значение его было самым тривиальным. Католический ученый-священник Томас Блаунт вряд ли что-то исправил в его обыденном, «низком» значении, составляя свою «Глоссографию» («Glossographia», 1656), книгу, «истолковывающую трудные слова, заимствованные из прочих языков и ныне употребляемые в благородном литературном английском языке»:
«Ландшафт (landskip) – это фон или же второй план живописного полотна, то есть некое изображение окрестных земель в виде холмов, лесов, замков, долин, рек, городов и т.д., насколько они могут быть видны до линии горизонта. Все то, что на картине не имеет отношения к изображению человека, то есть к основному сюжету или чему-то, непосредственно с ним связанному, и представляет собой ландшафт или второй план».
Столь отстраненное восприятие ландшафта как чего-то второстепенного, вспомогательного – весьма странный аспект европейской культурной истории, неожиданно обнажающий куда более древний предрассудок, свойственный людям: уверенность человека в том, что природа существует исключительно для удовлетворения его потребностей, а потому в своем диком или неприрученном виде является либо враждебной по отношению к нему, либо глубоко индифферентной. Это проявляется в излюбленном средневековом мотиве hortus conclusus – закрытого или обнесенного стеной сада как эмблемы или символа возделанной земли, взятой человеком под свой контроль, где могут пребывать в полной безопасности столь же символическая Девственница и ее ручной единорог. Действительно, естественный ландшафт обычно так и воспринимается: только как фон для обители отшельника или райских кущ. Столь жестко антропоцентрическое отношение к природе и мирозданию по большей части может быть без сомнения отнесено на счет влияния Библии и учений Церкви (где дикая природа также считается наилучшим убежищем для разнообразных грешников и изгоев); и мне бы хотелось думать, что можно считать подобное отношение в основе своей архетипическим страхом, столь понятным в более ранний период нашей истории, перед могуществом неведомых человеку и по большей части враждебных ему сил природы; страхом, который, естественно, вызывает у человека желание обеспечить собственную безопасность и возможность выжить. Но за исключением тех случаев, когда это служит развлечением – например, в зоопарке или на экране телевизора, – общая неприязнь по отношению к большей части живых существ, не являющихся людьми или не имеющих непосредственного отношения к хозяйству человека, а также к диким ландшафтам по-прежнему характерна для нашего мира в целом, хотя старые причины этой неприязни по большей части отсутствуют; во всяком случае, ярко выраженная опасность со стороны природы обществу не грозит. Так что мы, видимо, должны смотреть глубже и отдавать себе отчет в собственном нарциссизме или упрямой неспособности понимать или относиться терпимо ко всему живому на свете, даже если оно не похоже на человека или как минимум не очеловечено людьми.
Просто удивительно, какой положительный смысл мы вкладываем в глагол «очеловечивать»! «Делать более уступчивым, более сговорчивым, легко поддающимся обработке и знакомым» – вот как это слово интерпретировалось в XVII веке, что возвращает нас к более ранней концепции человека как Божьего надсмотрщика над всей остальной природой. Вот почему мы такое большое значение придаем способности разных птиц и зверей быть управляемыми. Как же иначе смог бы один из наиболее обособленных и агрессивных видов птиц («никогда два кролика не живут под одним кустом») стать несопоставимо популярнее всех прочих и самым сентиментальным образом воспеваться в европейском фольклоре? Беда, ясное дело, заключается в том, что человек продолжает играть не просто роль управляющего природой, а скорее роль нацистского штурмовика или рабовладельца и соответствующим образом относится ко всей той обширнейшей части природы, которая не желает подвергаться пресловутому «очеловечиванию» или служить для человека «скатертью-самобранкой».
Единственным достойным предметом для изобразительного искусства во времена Томаса Блаунта был человек и творения человека – города, дома, войны, празднества, боги (впрочем, даже последние должны были подлаживаться под представления человека о себе самом!). Я был просто потрясен всем этим на недавней выставке «Гении Венеции», состоявшейся в Лондоне. Критики-искусствоведы, как и многие мои друзья, похоже, единодушно сочли, что это поистине великолепная выставка. А на меня она произвела весьма печальное впечатление – именно потому, что она так агрессивно ставила человека в центр всего сущего. Я не помню ни одной картины с этой выставки, которая каким-либо особым образом не подчеркивала бы, что пейзаж и природа – это просто parergon, этакий фон, «задник». Многие художники, как в произведениях XVI века, так и в более поздних произведениях, представленных на выставке, даже не задумывались об этой «постылой» составляющей своих живописных полотен, а использовали своих учеников или наемных помощников, чтобы те дорисовали за них эту «неинтересную» часть картины.