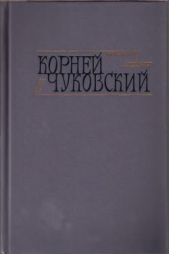Критические рассказы
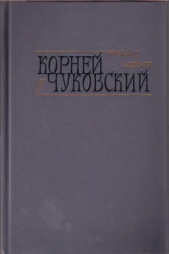
Критические рассказы читать книгу онлайн
Корней Чуковский работал во многих жанрах. Начинал он в 1901 году как критик. В разные годы выступал в печати как историк литературы, литературовед, мемуарист, переводчик, теоретик художественного перевода, лингвист, детский писатель, исследователь детской психологии. В предлагаемый двухтомник вошли его сказки для детей, статьи и книги о детях (том 1) и его критические работы (том 2).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Москве болезнь усилилась, ему захотелось домой, но надо было каждый вечер выступать на эстраде. Это угнетало его. — «Какого черта я поехал?» — было постоянным рефреном всех его московских разговоров. Когда из Дома Печати, где ему сказали, что он уже умер, он ушел в Итальянское Общество, в Мерзляковский переулок, часть публики пошла вслед за ним. Была Пасха, был май, погода была южная, пахло черемухой. Блок шел в стороне от всех, вспоминая свои «Итальянские стихотворения», которые ему предстояло читать. Никто не решался подойти к нему, чтобы не помешать ему думать. В этом было много волнующего: по озаренным луною переулкам молча идет одинокий печальный поэт, а за ним, на большом расстоянии, с цветами в руках, благоговейные любящие, которые словно чувствуют, что это последние проводы. В Итальянском Обществе Блока встретили с необычайным радушием, и он читал свои стихи упоительно, как еще ни разу не читал их в Москве: медленно, певучим, густым, страдающим голосом. На следующий день произошло одно печальное событие, которое и показало мне, что болезнь его тяжела и опасна. Он читал свои стихи в Союзе Писателей, потом мы пошли в ту тесную квартиру, где он жил (к проф. П. С. Когану), сели пить чай, а он ушел в свою комнату и, вернувшись через минуту, сказал:
— Как странно! До чего все у меня перепуталось. Я совсем забыл, что мы были в Союзе Писателей, и вот сейчас хотел сесть писать туда письмо, извиниться, что не мог прийти.
Это испугало меня: в Союзе Писателей он был не вчера, не третьего дня, а сегодня, десять минут назад, — как же мог он забыть об этом — он, такой точный и памятливый! А на следующий день произошло нечто, еще больше испугавшее меня. Мы сидели с ним вечером за чайным столом и беседовали. Я что-то говорил, не глядя на него, и вдруг, нечаянно подняв глаза, чуть не крикнул: предо мною сидел не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой, даже отдаленно не похожий на Блока. Жесткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другие. И главное: он был явно отрезан от всех, слеп и глух ко всему человеческому.
— Вы ли это, Александр Александрович? — крикнул я, но он даже не посмотрел на меня.
Я и теперь, как ни напрягаюсь, не могу представить себе, что это был тот самый человек, которого я знал двенадцать лет.
Я взял шляпу и тихо ушел. Это было мое последнее свидание с ним.
Теперь, когда я перебираю в уме наши встречи, я вспоминаю только — заседания. Как будто тянется одно заседание — без начала, без конца — три года, и то, что я сейчас напишу, можно было бы озаглавить чудовищно: «Блок, как заседатель».
Я помню самые мелкие эпизоды нашего трехлетнего сидения в Союзе Деятелей Художественной Литературы,
в Правлении Союза Писателей,
в редакционной коллегии издательства Гржебина,
в коллегии «Всемирной Литературы»,
в Высшем Совете «Дома Искусств»,
в Секции Исторических Картин, всюду мы заседали вместе и садились обычно рядом. Вот он сидит и рассматривает портрет Лермонтова, напечатанный в книге, потом показывает мне и говорит:
— Не правда ли, Лермонтов только такой? Только на этом портрете? На остальных — не он.
И опять умолкает, как будто и не говорил ничего. А однажды наклонился и сказал:
— Говорят, Буренин голодает, Буренин из «Нового Времени». Нужно собрать для него деньги, я тоже дам.
Это удивило меня, Буренин лет пятнадцать подряд величал его в своих статьях «идиотом».
Через полчаса Блок наклонился опять и сказал:
— У него была хорошая пародия на мои «Шаги командора».
В последнее время он очень тяготился заседаниями, так как те, с кем он заседал (особенно двое из них), возбуждали в нем чувство вражды. Началось это с весны 1920 года, когда он редактировал сочинения Лермонтова.
Он исполнил эту работу по-своему и написал такое предисловие, какое мог написать только Блок: о вещих снах у Лермонтова, о Лермонтове-боговидце.
Помню, он был очень доволен, что привелось поработать над любимым поэтом, и вдруг ему сказали на одном заседании, что его предисловие не годится, что в Лермонтове важно не то, что он видел какие-то сны, а то, что он был «деятель прогресса», «большая культурная сила», и предложили написать по-другому, в более популярном, «культурно-просветительном» тоне. Блок не сказал ничего, но я видел, что он оскорблен. Если нужен «культурно-просветительный» тон, зачем же было обращаться к Блоку? Разве у нас недостаточно литературных ремесленников?
Чем больше Блоку доказывали, что надо писать иначе («дело не в том, что Лермонтов видел сны, а в том, что он написал на смерть Пушкина»), тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось его лицо.
С тех пор и началось его отчуждение от тех, с кем он был принужден заседать. Это отчуждение с каждой неделей росло.
Когда Блок понял, что, как Блек, он никому не нужен, он отстранился от всякого участия в нашей работе, только заседал и молчал.
Если же говорил, — то о своем, и не на заседаниях, а в антрактах между двумя заседаниями. В одном и том же помещении на Моховой мы заседали иногда весь день сплошь: сперва — в качестве правления Союза Писателей, потом — в качестве коллегии «Всемирной Литературы», потом — в качестве Секции Исторических Картин, и т. д. Чаще всего Блок говорил с Гумилевым. У обоих поэтов шел нескончаемый спор о поэзии. Гумилев со своим обычным бесстрашием нападал на символизм Блока:
— Символисты — просто аферисты. Взяли гирю, написали на ней десять пудов, но выдолбили середину, швыряют гирю и так, и сяк, а она — пустая.
Блок однотонно отвечал:
— Но ведь это делают все последователи и подражатели — во всяком течении. Символизм здесь ни при чем. Вообще же то, что вы говорите, для меня не русское. Это можно очень хорошо сказать по-французски. Вы слишком литератор, и притом французский.
Эти откровенные споры завершились статьею Блока об акмеизме, где было сказано много язвительного о теориях Н. Гумилева. Статье не суждено было увидеть свет, так как «Литературная Газета» не вышла.
Спорщики не докончили спора. Россия не разбирала, кто из них — акмеист, кто символист…
Когда Блок говорил о своей поэзии, он говорил о ней либо торжественно, либо насмешливо.
У него была привычка, сказавшаяся во многих его пьесах и стихах, — относиться к себе и ко всему своему иронически. Вспомним хотя бы его статью «О любви, поэзии и государственной службе». Он мог горячо защищать символистов, но, например, в своем списке «Ста лучших писателей» он отвел им очень мало места, и когда я спросил его, почему, он ответил:
— Не люблю этих молодых людей.
И, спустя некоторое время, прибавил:
— Я в этих молодых людях ничего не понимаю, — именуя молодыми людьми пятидесятилетних и шестидесятилетних поэтов.
О программе, которую составил Гумилев, он сказал:
— Николай Степанович хочет дать только хорошее, абсолютное. Тогда нужно дать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского — и больше никого. Все остальные писатели — спорные.
Я напомнил ему о его любимом Тютчеве, и он, к моему удивлению, ответил:
— Ну, что такое Тютчев? Коротко, мало, всё отрывочки. К тому же его поэзия — немецкая.
В таком тоне он часто говорил о самом любимом, например — о Прекрасной Даме, и если бы в нем не было этого тона, он не написал бы «Балаганчика». Сергей Городецкий рассказывает в «Воспоминаниях о Блоке», что Блок в шутку назвал свою «Нечаянную Радость» — «Отчаянной Гадостью», а себя — Александром Клоком. [341] Его тянуло смеяться над тем, что было пережито им, как святыня. Ему действительно нравилась пародия В. П. Буренина, в которой тот втаптывал в грязь его высокое стихотворение «Шаги Командора». Показывая «Новое Время», где была напечатана эта пародия, он сказал:
— Посмотрите, не правда ли, очень смешно: