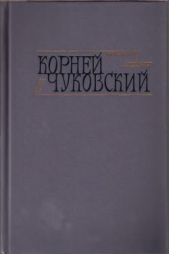Критические рассказы
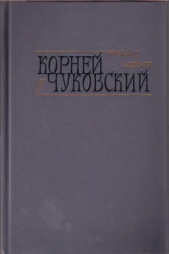
Критические рассказы читать книгу онлайн
Корней Чуковский работал во многих жанрах. Начинал он в 1901 году как критик. В разные годы выступал в печати как историк литературы, литературовед, мемуарист, переводчик, теоретик художественного перевода, лингвист, детский писатель, исследователь детской психологии. В предлагаемый двухтомник вошли его сказки для детей, статьи и книги о детях (том 1) и его критические работы (том 2).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Замечательно, что он не побоялся ввести в эту шутку свои любимые романтические образы: соловьиный сад, голубой цветок, Незнакомку. О голубом цветке он писал:
Тогда он чувствовал себя еще не окончательно погибшим и потому в конце стихотворения взял мажорный и задорный тон:
Но это был лишь временный приступ веселья, и вскоре он понял, что не ему похваляться живучестью. В своем последнем письме ко мне он, как мы увидим, отрекается от этой бодрой строки.
Остальные стихотворения гораздо мрачнее. Как-то зимою мы шли с ним по рельсам трамвая и говорили, помню, о «Двенадцати».
Он говорил мне, что строчка:
принадлежит не ему, а его жене, Любови Дмитриевне. — У меня было гораздо хуже, — говорил он, — у меня было:
но Люба (жена) напомнила мне, что Катька не могла мести улицу юбкой, так как юбки теперь носят короткие, и сама придумала строчку о шоколаде Миньон.
Я сказал ему, что теперь, когда Катька ушла из публичного дома и, сделавшись «барышней», поступила на казенную службу, его «Двенадцать» уже устарели.
Он ничего не ответил, и мы заговорили о другом. Но через несколько дней он принес мне листочек, где, в виде пародии на стихотворение Брюсова, была изображена эта новая Прекрасная Дама — последняя из воспетых им женщин. Женщины, которых он пел, всегда были для него не только женщинами, но огромными символами чего-то иного. После Прекрасной Дамы он пел Белую Даму, Мэри, Фаину, Сольвейг, Незнакомку, Снежную Деву, Деву Звездной Пучины, Кармен, Девушку из Сполето, Катьку, — и вот, в конце этого длинного ряда, появилась у него новая Женщина:
Стихотворение было длинное. Поэт рассказывал, что, возвращаясь со службы, он нес в руке бутылку с керосином. Обольстительная кретинка была не одна: ее сопровождал некий тигроподобный молодой человек:
Поэт пробовал смеяться над этой обольстительной кретинкой, но она оказалась сильнее его и вскоре посмеялась над ним. В мае 1921 года я получил от него страшное письмо, — о том, что она победила:
«…Сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще: жар не прекращается, и все всегда болит… Итак, здравствуем и посейчас — сказать уже нельзя: слопала таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка».
Он ни за что не хотел уезжать из России, как бы тяжело ему ни было в ней, и только перед смертью, по внушению врачей, стал мечтать о заграничной больнице. Покинуть Россию теперь — казалось ему изменой России. Он заучил наизусть недавно изданное стихотворение Анны Ахматовой и с большим сочувствием читал его мне и Алян-скому в вагоне, по дороге в Москву:
— Ахматова права, — говорил он. — Это недостойная речь. Убежать от русской революции — позор.
Сам он не боялся революции, очень любил ее, и лишь одно тревожило его:
— Что, если эта революция — поддельная? Что, если и не было подлинной? Что, если подлинная только приснилась ему?
Чувствовалось, что здесь для него важнейший вопрос. Ссылаясь на какую-то мне неизвестную статью московского философа Б., он в последнее время отвечал на этот вопрос отрицательно. О причинах этих тревог и сомнений, столь чуждых истинному революционеру-плебею, было сказано выше, на первых страницах.
К тем писателям, которые, убежав из России, клевещут на оставшихся в ней, он относился с не свойственным ему раздражением и говорил о них так горячо, как, кажется, не говорил ни о ком.
Когда в феврале 1921 года Всероссийский Союз Писателей рассматривал в особом заседании те небылицы и вздоры, которые в заграничных газетах распространяли обо мне мои друзья, Блок, вместе с покойным Гумилевым, принял это дело до странности близко к сердцу, и только тогда я увидел, как измучила его самого трехлетняя травля, которую вели против него соотечественники. И думалось:
«Должно быть, у России много Блоков, если этого она так весело топчет ногами».
И становилась понятна та жестокая злоба, с которой он говорил об этих заграничных ругателях. Когда весной 1921 года у Союза Писателей возникла мысль об издании «Литературной Газеты», Блок написал небольшую статью об эмигрантской печати и предлагал мне, как одному из редакторов, поместить ее в нашей газете без подписи, в качестве редакционной статьи.
Вот эта статья (цитирую по рукописи):
«Зарубежная русская печать разрастается. Следует отметить значительное изменение ее тона по отношению к России и к литературным собратьям, которые предпочли остаться у себя на родине. Впрочем, это естественно. Первые бежавшие за границу были из тех, кто совсем не вынес ударов исторического молота; когда им удалось ускользнуть (удалось ли еще? Не настигнет ли их и там история? Ведь спрятаться от нее невозможно), они унесли с собой самые сливки первого озлобления; они стали визгливо лаять, как мелкие шавки из-за забора; разносить, вместе с обрывками правды, самые грязные сплетни и небылицы. Теперь голоса этих господ и госпож „Даманских“ всякого рода замолкают; разумеется, отдельные сплетники еще не унимаются, но их болтовня — обыкновенный уличный шум; появляется все больше настоящих литературных органов, сотрудникам которых понятно, что с Россией и со всем миром случилось нечто гораздо более важное и значительное, чем то, что г-жам Даманским приходилось читать лекции проституткам, есть капусту и т. п. Русские за рубежом понимают все яснее, что одним „скверным анекдотом“ ничего не объяснишь, что жалобы, вздохи и подвизгивания ничему не помогут… „Литературная Газета“ намерена в будущем, по мере возможности, освещать этот перелом, наступивший в области русской мысли. Она радуется тому, что в Европе раздались, наконец, настоящие русские голоса, что с людьми можно, наконец, спорить или соглашаться серьезно. Возражать всякой литературной швали, на которой налипла, кроме всех природных пошлостей, еще и пошлость обывательской эмигрантщины, у нас никогда не было потребности, но разговаривать свободно, насколько мы сможем, с людьми, говорящими по-человечески, мы хотим…»