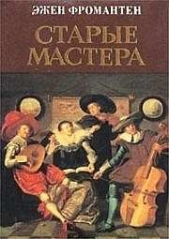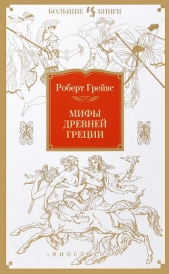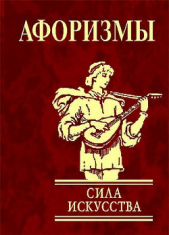Философия искусства
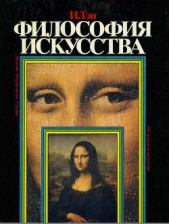
Философия искусства читать книгу онлайн
Автор этой в свое время одной из самых популярных книг по истории и теории изобразительного искусства выдающийся французский философ и историк Ипполит Тэн (1828—1893) по праву считается классиком мировой искусствоведческой мысли. Впервые она была выпущена в 1880 г. на основе лекционных курсов, прочитанных им в 1864—1869 гг. в парижской Школе изящных искусств. С присущим ему литературным мастерством Тэн увлекательно рассказывает о сущности, особенностях и характере процесса создания произведений искусства, творческой лаборатории видных итальянских и нидерландских живописцев, древнегреческих скульпторов. В книге воссоздаются картины жизни и наиболее яркие события Древней Греции, Италии и Нидерландов в средние века и в эпоху Возрождения, показано их влияние на развитие культуры. Печатается в переводе А. Н. Чудинова по изданию, выпущенному в Санкт-Петербурге в 1904 г. Имена и фамилии, названия художественных произведений даются в современной транскрипции. Для всех, кто интересуется проблемами теории и истории мирового искусства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Подобные же гимны существовали и на всякие другие случаи военной жизни; так, например, пели особые анапесты, идя в атаку под громкие звуки флейт. Мы видели схожее с этим зрелище в момент первого энтузиазма революции; в тот день, когда Дюмурье, вздев шляпу на конец шпаги, брал приступом высоты Жемаппа, он вдруг грянул Le chant du depart (песнь на выступление в поход), и солдаты, стремясь вслед за начальником, дружно подхватили песню. По этой шумной разноголосице мы можем составить себе понятие и о правильном боевом хоре, музыкальном марше древних эллинов. Такого рода марш раздался после саламинской победы, когда пятнадцатилетний Софокл, прекраснейший из всех афинских юношей, разделся по обряду донага и проплясал пеан в честь Аполлона посреди военного торжества и перед самым победным трофеем.
Но богослужебный культ доставлял орхестрике еще более материала, нежели политика и война. По понятиям греков, самое приятное зрелище, какое можно было предложить богам, это прекрасные цветущие тела во всякого рода положениях, обнаруживающих полноту силы и здоровья. Вот почему священнейшие из их праздников были чисто оперные шествия и серьезные балеты. Избранные граждане, а иногда, как было, например, в Спарте, и вся городская община (все гимнопедии) составляли из себя хоры в честь богам; каждый сколько-нибудь значительный город имел своих поэтов, которые сочиняли музыку и стихи, составляли группы, и все их движения показывали, какие брать позы, долго обучали актеров и придумывали подходящие костюмы; чтобы представить себе такой церемониал, у нас один только образчик в современной жизни — зрелища, какие и доселе еще даются, каждые десять лет, в Обераммергау, в Баварии, где, начиная с эпохи средних веков, все жители городка, человек пятьсот или шестьсот, подготовляемые к тому с детского возраста, торжественно представляют святые Христовы Страсти. На праздниках такого рода в Греции Алкман и Стесихор были вместе поэтами, капельмейстерами, балетмейстерами, иногда действующими лицами, первыми корифеями больших композиций, в которых хоры юношей и девиц публично представляли какую-нибудь богатырскую или божескую легенду. Один из таких священных балетов, дифирамб, впоследствии стал греческой трагедией. Последняя на первых порах сама была не что иное, как религиозный праздник, усовершенствованный и местами сокращенный, перенесенный с народной площади в замкнутый театр, — последовательная череда хоров, прерываемых рассказом и мелопеей главного действующего лица, нечто вроде одного из Страстей Себастьяна Баха, Сотворения Мира Гайдна, какой-нибудь оратории или Сикстинской мессы, в которых одни и те же лица пели бы, положим, свои партии и вместе образовали бы театральные группы.
Из всех подобного рода стихотворений самые популярные и наиболее знакомящие нас с этими отдаленными нравами были кантаты, славившие победителей на четырех главных играх. Вся Греция, Сицилия и острова обращались за ними к Пиндару, Он отправлялся на место сам или посылал гуда своего друга стимфалийца Энния обучать хор пляске, музыке и декламации его стихов. Празднество начиналось процессией и жертвоприношением; затем друзья атлета-победителя, его родные и знатнейшие в городе лица рассаживались за пир. Иногда кантату пели еще во время шествия, а тогда все оно останавливалось для произнесения эпода; иной раз это происходило по окончании празднества, в обширной зале, убранной панцирями, копьями и мечами[105]. Действующими лицами были товарищи атлета, исполнявшие свои роли с тем южным воодушевлением, какое видишь в Италии на представлениях Comedia dell’Arte. Но играли они не комедию: роль их была серьезна или, скорее, это вовсе была не роль; они испытывали самое глубокое и благородное наслаждение, какое только доступно человеку, когда он чувствует себя прекрасным и возвеличенным, стоящим выше уровня пошлой жизни, перенесенным на лучезарные высоты Олимпа силою воспоминания о доблести родных героев, силой призыва великих своих богов, заветной памятью своих предков, прославлением своего отечества. Ведь победа атлетов была общенародным торжеством, и стихи певца присоединяли к нему не только всю городскую общину, но и покровителей ее, богов небесных. Окруженные такими образами, восторженные своим собственным подвигом, греки доходили до того крайне напряженного состояния, которое они называли энтузиазмом, указывая самым этим словом, что в них присутствовал тогда Бог; да, Он и действительно в них присутствовал, потому что Он входит в человека в те минуты, когда тот чувствует, что его силы и благородство возрастают до бесконечности под влиянием дружной энергии и симпатической радости всей той ликующей группы, с которой действует он заодно.
Для нас непонятна уже в настоящее время поэзия Пиндара, она слишком местна и специальна, слишком переполнена намеками, создана исключительно для греческих атлетов VI века; дошедшие до нас стихи только ведь обрывок, не более; акцент, мимика, пение, звуки инструментов, сцена, пляска, строй шествия, десятки других не менее важных принадлежностей — все погибло невозвратно. Нам крайне трудно представить себе юные умы, никогда ничего не читавшие, не имевшие никаких отвлеченных идей, — умы, в которых каждое слово вызывало цветистые, колоритные формы, воспоминания о гимназии и беге, храмы, пейзажи, берега светлого моря, целую толпу фигур живых и божественных, как во времена Гомера, а может быть, и еще более божественных. И, однако же, порою нам как будто слышится отзыв этих звучных голосов; перед нами сверкнет мгновенной молнией величавая поза увенчанного лавром юноши, когда он выделяется из хора, чтобы произнести слова Язона или торжественный Ираклов обет; мы угадываем порывистую краткость его телодвижения, его напряженные руки, широкие мышцы, вздувшиеся на его груди; мы находим еще, там и сям, лоскуток поэтической багряницы, столь же яркой, как живопись, вчера лишь, вчера открытая в Помпее.
То выступает вперед корифей: ’’Как отец, который, хватая щедрою рукой кубок литого золота, перл своей сокровищницы и лучшее украшение своих пиров, подает этот кубок, пенящийся виноградной росой, молодому супругу своей дочери, — так точно и я шлю увенчанным бойцам влажный нектар, этот дар Муз, и душистыми плодами своей мысли радую олимпийских и пифейских победителей”.
То остановившийся вдруг хор, вперемежку с полухорами, развертывает, все с возрастающей силой, великолепные звукосочетания катящейся, как триумфальная колесница, оды: ”На земле и в неукротимом Океане только нелюбые Зевсу существа ненавидят голос Пиэрид. Таков этот божий враг, Тифон, стоглавое чудовище, пресмыкающееся в гнусном Тартаре. Сицилия гнетет косматую его грудь. Столп, высящийся до неба, снежистая Этна, вечная кормилица суровых стуж, сдерживает его порывы... и из пучин своих изрыгает он потоки огня, к которым нет подступа. Днем подымаются от них облака багрового дыма, а ночью вихри красного пламени низвергают с грохотом скалы в глубокое море... Дивно глядеть на страшное это чудовище, заточенное под высокими вершинами и черными борами Этны, под спудом целой равнины, как ревет оно под тяжкими своими узами, бороздящими и колющими распростертый хребет его”.
Поток образов так и льется, все возрастая, прерываемый на каждом шагу такими неожиданными взрывами, поворотами и скачками, что их смелость, их громадность не поддаются переводу ни на какой другой язык. Очевидно, что эти греки, столь трезвые и ясные в своей прозе, приходят здесь в какое-то опьянение, переступают всякую меру под влиянием восторга и лирического неистовства. Вот это-то и есть крайности, не под стать нашим притупленным органам и нашей рассудочной цивилизации. Однако же мы все-таки разгадываем их настолько, чтобы понять, что могла доставить подобная культура художествам, изображающим человеческое тело. Она образует человека хором; она научает его позам, жестам, скульптуральному действию; она ставит его в группу, которая сама уже подвижной барельеф; вся она ведет к тому, чтобы создать из него самородного актера, играющего по призванию и для своего собственного удовольствия, который не налюбуется сам собой и вносит гордость, серьезность, свободу и простое достоинство гражданина в упражнения театрального фигуранта и в мимику записного плясуна. Орхестрика доставила скульптуре ее позы, ее движения, ее драпировку, ее группы; мотивом фризу Парфенона послужил ведь торжественный ход панафинейских праздников, а пиррическая пляска подала мысль к изваяниям Фигалии и Будруна.