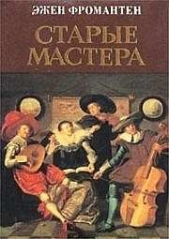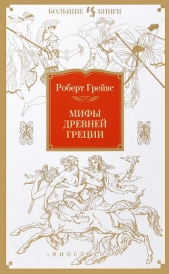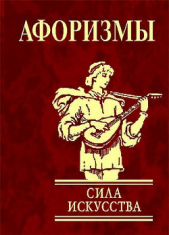Философия искусства
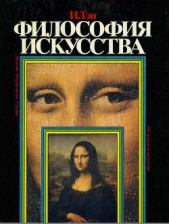
Философия искусства читать книгу онлайн
Автор этой в свое время одной из самых популярных книг по истории и теории изобразительного искусства выдающийся французский философ и историк Ипполит Тэн (1828—1893) по праву считается классиком мировой искусствоведческой мысли. Впервые она была выпущена в 1880 г. на основе лекционных курсов, прочитанных им в 1864—1869 гг. в парижской Школе изящных искусств. С присущим ему литературным мастерством Тэн увлекательно рассказывает о сущности, особенностях и характере процесса создания произведений искусства, творческой лаборатории видных итальянских и нидерландских живописцев, древнегреческих скульпторов. В книге воссоздаются картины жизни и наиболее яркие события Древней Греции, Италии и Нидерландов в средние века и в эпоху Возрождения, показано их влияние на развитие культуры. Печатается в переводе А. Н. Чудинова по изданию, выпущенному в Санкт-Петербурге в 1904 г. Имена и фамилии, названия художественных произведений даются в современной транскрипции. Для всех, кто интересуется проблемами теории и истории мирового искусства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
При мысли о лирической поэзии нам (французам) невольно вспоминаются оды Виктора Гюго или стансы Ламартина; мы их пробегаем глазами или читаем вполголоса какому-нибудь приятелю в тиши кабинета; наша новая цивилизация сделала из поэзии откровенную беседу одной души с другой. Поэзия греков не только произносилась громко, вслух, но еще и декламировалась, распевалась под звуки инструментов, мало того — она олицетворялась мимикой и пляской. Представим себе Дельсарте или г-жу Виардо, поющими речитатив из Ифигении или Орфея, Руже де Лиля или Рашель, декламирующими Марсельезу, вообразим себе хор из Альцесты Глюка, как мы видим его у нас на сцене, только с корифеем (хороводцем) во главе, с оркестром и с целой массой сплетающихся и опять развертывающихся групп перед ступенями храма, и все это не при свете рампы и не среди расписных декораций, как теперь, а на народной площади, под лучами настоящего солнца; мы получим тогда хоть сколько-нибудь приблизительное понятие о празднествах и нравах древних греков. Человек вовлекался в них душою и телом весь, как есть, и дошедшие до нас стихи не более как оторванные листки оперного либретто. В какой-нибудь корсиканской деревне ’’запевала” (voceratrice) на похоронах импровизирует и декларирует песни мести перед телом зарезанного человека и жалобы перед гробом молодой девушки, преждевременно сошедшей в могилу. В горах Калабрии или Сицилии при народных плясках молодежь изображает своими позами и жестами разные маленькие драмы и сцены простодушной любви. Представим себе в подобном же климате, но под еще более прекрасным небом, в небольших городских общинах, где все знают друг друга в лицо, людей столь же склонных к жестикуляции, так же впечатлительных и быстрых на выражение своего чувства, с еще более живой и юной душой, с умом, еще более изобретательным, находчивым, склонным приукрашивать все действия и моменты человеческой жизни. Эта музыкальная пантомима, которую мы встречаем теперь только отдельными обрывками в каких-нибудь глухих захолустьях, развернется тогда перед нами, раскинется в сотне отростков и ветвей и даст содержание целой богатой литературе; не найдется чувства, которого бы она не выразила, сцены частной или общественной жизни, которой бы она не сумела украсить, намерения или положения, на которые бы ее не стало. То будет естественный язык, столь же общепринятый и общедоступный, как наша писаная или печатная проза; последняя ныне не что иное, как сухой переговор знаками, посредством которых один чистый отвлеченный ум входит в общение с другим; перед первобытным, вполне подражательным и чувственным языком это ведь какая-то алгебра, голая схема.
Французское ударение однообразно; в нем нет ровно никакой певучести; долгие и краткие звуки не довольно обозначены, слишком слабо разнятся между собой. Надо слышать какой-нибудь истинно музыкальный язык, беспрерывную мелопею какого-нибудь прекрасного итальянского голоса, читающего стансы Тассо, чтобы понять, какую силу слуховое ощущение может придать внутреннему чувству души, каким образом звук и ритм распространяют свое влияние на весь наш механизм, заражают собой сплошь все наши нервы. Таков и был этот греческий язык, от которого нам уцелел теперь один только остов. Из показаний толкователей и схоластов очевидно, что звук и размер столько же в нем значили, как мысль и образ. Поэт, придумавший какой-нибудь особый размер, изобретал вместе с тем и особенный род ощущений. Известное сочетание кратких и долгих звуков необходимо образует аллегро, другое опять — ларго, третье — скерцо и сообщает отпечаток своих модуляций и своего характера не только мысли, но притом еще и музыке и жесту. Вот отчего век, создавший великую совокупность лирической поэзии, создал в то же время и не менее великую совокупность орхестрики. Нам известны названия двухсот разных греческих плясок. В Афинах вплоть до шестнадцатилетнего возраста орхестрика исчерпывала весь круг воспитательных предметов.
”В то время, — говорит Аристофан, — молодежь любой части города, отправляясь к учителю-кифаристу, шла по улице вместе в строгом порядке, и притом вся босиком, хотя бы даже снег порошил, как мука из сита. Там они рассаживались, не сжимая ног (чтобы отогреть их); их тотчас принимались учить гимну: ’’Грозная градорушительница Паллада” или ’’Вопль несется издалека”, и дружно напрягали они голоса с суровою и мужественною гармонией, завещанной отцами”.
Один юноша знатной семьи, Гиппоклид, прибыв гостем в Сикион к тирану Клисфену и показав себя молодцом во всех телесных упражнениях, захотел блеснуть своим прекрасным воспитанием еще и перед обществом, на вечернем празднестве[99]. Приказав флейтисту сыграть Эммелию, он исполнил эту пляску; потом велел подать стол, вскочил на него и проделал все фигуры лакедемонской и афинской орхестрики. Подготовленные таким образом греки были вместе ’’певцы и плясуны”[100]; они сами себе устраивали те прекрасные живописные и поэтические зрелища, для которых потом нанимали фигурантов. На их клубных пирах[101] после трапезы совершались возлияния и пелся пеан в честь Аполлона; затем начинался собственно праздник комос, сопровождаемая мимикой декламация, лирический речитатив под звуки кифары и флейты, соло с каким-нибудь хоровым припевом, вроде позднейшей песни Гармодия и Аристогитона, дуэт, который пели и плясали наподобие того, как потом в ксенофонтовском ’’Пиру” исполнялась встреча Вакха с Ариадной. Иной гражданин, став тираном и желая пожить в свое удовольствие, прежде всего расширял и упрочивал вокруг себя такие празднества. Поликрат в Самосе держал при себе двух поэтов — Ивика и Анакреона, которым поручалось устройство праздников, а также сочинение для них музыки и стихов. Лица, представлявшие их поэтические произведения, были самые красивые молодые люди, каких только можно было отыскать, — Вафилль, игравший на флейте и певший мастерски на ионийский лад, Клеовул с прекрасными девичьими глазами, Сималл, игравший в хоре на пектиде[102], Смердий с роскошно вьющимися волосами, которого нарочно добыли из далекой Фракии, у киконов. Это та же опера в малом виде и среди домашней обстановки. Все лирические поэты того времени быЛи вместе с тем и хороучителями; жилища их представляли нечто вроде консерваторий[103], ’’домов муз”. Много этих домов было в Лесбосе, не считая принадлежащего Сафо; бывали они и под руководством женщин; ученицы стекались к ним даже с других островов или с соседних берегов, из Милета, Колофона, Саламина, Памфилии; там несколько лет кряду обучались музыке, декламации, искусству прекрасных поз; над неуклюжими смеялись, называя их ’’мужичками”, не умеющими даже ловко ’’приподнять платье”, отсюда поставлялись корифеи и здесь же подготовлялись хоры для погребальных плачей или для свадебных торжеств. Таким образом, вся частная жизнь своими обрядами и своими увеселениями равно содействовала выработке из человека того, что мы называем певцом, фигурантом, статистом и актером, но все это в самом прекрасном значении слова и с совершенным притом достоинством.
К тому же самому приводила и общественная жизнь. В Греции орхестрика входит в религию и в политику, как в мире, так и в войне, для того чтобы почтить убитых и прославить победителей. На ионийском празднике Фрагелий[104] поэт Мимнерм со своей любовницей Нанно выступал во главе шествия, играя на флейте. Каллин, Алкей, Феогнид увещевали своих сограждан или сторонников в стихах своего сочинения, которые сами же они и пели. Когда после нескольких поражений афиняне определили смертную казнь тому, кто снова заговорит об отнятии назад Саламина, Солон в одежде глашатая с шапкой Гермеса на голове неожиданно явился в народное собрание, взошел на камень, где обыкновенно становились герольды, и произнес оттуда сочиненную им элегию с такой силой, что молодежь немедленно снарядилась в поход с целью освободить прелестный остров ”и снять бесчестие и позор с Афин”. На походах спартанцы декламировали песни под шатрами. Вечером после ужина каждый по очереди вставал и произносил с подходящею мимикой элегию, и военачальник (полемарх) назначал победителю в этом состязании больший против других кусок мяса. Конечно, прекрасна была картина, когда эти рослые молодые люди, самые сильные и статные во всей Греции, с их длинными волосами, тщательно подвязанными (и подшпиленными) на маковке, в своей алой тунике, с широкими отполированными щитами, с жестами атлетов и богатырей, распевали стихи вроде следующих: ’’Сразимся храбро за эту землю, нашу родину, — и умрем, не щадя живота, за наших детей. — А вы, молодежь, бейтесь стойко друг возле друга; — да никто из вас не даст постыдного примера бегства или трусости, — но да создаст себе в груди великое и доблестное сердце... Что до седых старцев, чьи колени не упруги уж по-нашему, — не покидайте их, не бегите прочь, — ведь стыд вам, если падет в первом ряду перед молодежью белоголовый и белобородый воин; — стыд, если, свалясь наземь, испустит он душу свою в пыли, — зажав руками кровавую рану на обнаженном теле. — Но все, напротив, к лицу молодым людям, — пока они блещут ярким цветом юности. — Не нарадуются ими мужчины, не налюбуются женщины, — они все еще прекрасны, хоть пади они в первом ряду... — Отвратительно одно — видеть простертым в пыли человека, — сраженного сзади, с пронзенною копьем спиной. — Пусть каждый, после первого пыла, стоит крепко, — вросши обеими ногами в землю и прикусив губы зубами, — закрыв широким щитом все тело, — бедра, ноги, подмышки, грудь по самый живот; — пусть бьется он ступня против ступни, щит против щита, — шлем против шлема, гребень против гребня, — грудь с грудью как можно ближе, — теснясь телом к телу, разя длинным копьем или мечом, — пусть каждый колет или рубит супостата”.