Позвонки минувших дней
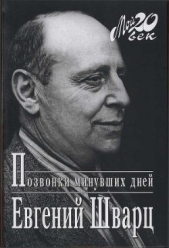
Позвонки минувших дней читать книгу онлайн
В дневниках одного из лучших советских драматургов Евгения Львовича Шварца (1896–1958) без прикрас рассказано о его собственной жизни и о десятках близко знакомых ему людей — С. Маршаке, К. Чуковском, Д. Хармсе, Н. Олейникове, М. Зощенко, Л. Пантелееве, Б. Житкове, К. Федине, В. Шкловском, М. Слонимском и др.
Читатель встретит на страницах умного, тонкого, открытого, доброжелательного, ироничного собеседника, иногда — беспощадного критика и всегда — тонкого стилиста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У Суетиных всегда было интересно. В те дни Суетин занимался своим делом вполне бескорыстно. Уже началось гонение на формалистов, а он все делал одно: или карандашом узкую, чуть склоненную набок как бы голову, и ее же маслом, и фигуру, как бы фигуру, как бы с подносом, украшенным цветными треугольниками. И у фигуры была все та же склоненная голова, форма головы, без лица. Иногда маэстро начинал, все так же диковато поглядывая или потупив глаза, проповедовать и на литературные темы. Так, однажды объяснял он долго, сосредоточившись изо всех сил, как было бы интересно стихотворение о форме «А». Буквы «А». Имел ли он в виду форму ее начертания или некую другую, понять я не мог. Говоря, он делал руками движения, рисующие именно типографскую форму этого звука. Выражался же гораздо темнее. Как будто имелось в виду нечто другое, куда более сокровенно — глубокое, однако безо всякой мистики. И ничего не понимая, я тем не менее чувствовал, что сам он верует в то, что добывает из цепи ощущений. В литературе он, как, впрочем, многие настоящие художники, ничего не понимал. Веровал в Хлебникова… И кроме того, в те дни еще было ощущение какой‑то связи между передним краем литературы, изо и музыки. Но наступление на этот край — на левое искусство или формализм — шло, все возрастая. У Малевича мастерскую отобрали. Формалистов стали удалять со всех ключевых позиций. Но маэстро и Костя Рождественский, с которым тот успел помириться, считались все еще лучшими оформителями города. Умели объяснять каждую свою работу теоретически. К этому времени обстоятельства сложились так, что мы реже встречались с Анечкой и Суетиным. Им поручили оформление Парижской выставки.
Суетины остались хорошими знакомыми, которых, по стечению обстоятельств, встречаешь два — три раза в год. Анечку, впрочем, чаще. Она прибегала с массой новостей и сведений, высокая, шустрая, веселая. От жадности, с которой она впитывала впечатления, в голове у нее происходили иной раз недоразумения. Так, сообщила она мне однажды, что Шекспир писал по — латыни. Сколько я ни спорил, она стояла на своем. Первое впечатление задело ее чувства и тем самым заняло место среди прочих ее верований. А попробуй вырви чувство, воздействуй на веру. Я звонил Лозинскому, но и он ее не убедил. Я показал ей издание «Гамлета» в переводе Лозинского, где на левых страницах шелтекст английский, а на правых — перевод. Тут она чуть дрогнула. «Ну, может быть (может быть!), — сказала она. — Некоторые пьесы писал он по — английски. Но все (все!) они написаны по — латыни». Издали — издали стали доноситься слухи, что маэстро уже не тот. Работали они с Костей в Москве, своими глазами убедиться я не мог и потому предпочитал не верить, но рассказывали, что маэстро, пьяневший от одной рюмки, теперь научился пить. Связался с какой‑то девушкой. С Анечкой не то разошелся, не то нет. Впервые встретился я с ним, когда вернулся он из Парижа. Анечка привела его к нам в гости. И в самом деле — держал маэстро руки и плечи не по — монашески. И не проповедовал. Со смертью Малевича, главы ордена, с успехом выставки он словно бы разрешил себе наслаждения менее высокие. Глаза все смотрели диковато. Он выпил со мной пол — литра коньяку, потом вина, но ничего с ним не случилось. Маэстро вырос, дверь школы со смертью учителя распахнулась и выпустила его в толпу взрослых и практических людей. Опьянев, он стал не проповедовать, нет, но делиться практическим опытом. Он объяснял, как надо обращаться с заказчиками. Как вести себя, — не стоит вспоминать. Со свойственной людям его склада правдивостью, он не стыдился себя в новом воплощении и веровал, что так и надо.
Взрослый маэстро отошел от нас еще дальше. Вскоре стал он готовить вместе с Костей оформление американской выставки [149]. Советского отдела выставки. Тут они поднялись до таких высот, что Костя Рождественский уверовал в свою значительность до самой глубины души. Он и без того уродился дородным и рослым, а тут еще появилась некоторая сановитость и почти министерская рассеянность. Ему чудилось, что удача пришла к нему неспроста. Все, что он думал о самом себе, подтвердилось — так чудилось ему. Превратился он в оформителя, но писать бросил начисто. А маэстро, по правдивости своей, сошелся с молоденькой женщиной, но объяснил Анечке, что без нее жить не может тоже, и она, по верности и склонности к самым трудным для нее, самым мучительным положениям, пошла на это. Все они жили в Москве и работали над оформлением выставки, но Анечка получала меньше других — маэстро считал, что неудобно выдвигать жену. И при этом все знали, что есть у него еще жена.
Так и представлял он свою девушку. А потом с Костей уехали они в Америку. А у новой жены маэстро родилась девочка. Мы совсем уж почти не встречались. Катюша поговорила с маэстро по телефону, сказала, что Анечка погибнет, если он не поддержит, хотя бы с материальной стороны, ее жизнь. Потом, кажется, Катя встретилась с ним и поговорила в Летнем саду. И сказала потом, что понимает маэстро. Правдивость в любовной стороне его жизни, вероятно. Я не расспрашивал. (Почему всегда неловко писать о жене и приводить ее слова?) Летом сорокового года, когда совсем уже больной папа жил у нас на даче и маму перевез я туда же, уговорили мы и Анечку переселиться к нам. Она заняла верх во флигельке, где жила хозяйка дачи. Сложностей и боли досталось ей на этот раз больше, чем может вынести человек. Она исхудала. Всегда бледная, как подобает блондинке с рыжеватым оттенком, тут стала она невозможно белой.
Но по удивительной жизненной силе оставалась она все той же — веселой, шустрой, быстрой. Вставая на рассвете, ухитрялась тем не менее опаздывать к завтраку. Папа не жил, а мучился, но выходил к столу, задыхаясь. На людях ему было легче. И Анечке раза два — три удалось рассмешить его. Мы, как любил папа в детские мои годы, придумывали шарады, и Анечка умышленно давала нелепые ответы с необыкновенной быстротой. И папа смеялся.
Когда началась война и бомбежка Москвы, маэстро приехал в Ленинград, отправив свою девочку с матерью в эвакуацию. Он, в случае несчастий и бед, чувствовал себя спокойнее возле Анечки. По правдивости натуры ужас он так же мало скрывал, так же отдавался ему, как и прочим своим страстям. Увиделись мы с ним в 44–м году. К этому времени погибла молодая жена маэстро. Возле Уфы, в какой‑то деревне. Уже перед возвращением в Москву пошла она в соседнее село купить шерсти и попала в буран, заблудилась и замерзла. Анечка и маэстро обменяли квартиру, все в том же доме собственников. Я пришел к ним с Наташей, приехав на несколько дней из Москвы. Лестница оказалась еще круче. По черной этой лестнице попали мы в кухню, она же столовая. Вихрем налетела на меня Анечка, высокая, веселая. Встал из‑за стола, улыбаясь и диковато поглядывая, маэстро, очень похожий на раннего, двадцатых годов. Он рисовал развалины домов. И как настоящий ученик Малевича, объяснял свои рисунки, давал их теорию. И все‑таки они были хороши. Рисовал он все время женщину с худым лицом, головой, склоненной набок, как на прежних его картинах. И Анечка объяснила мне шепотом, что это он хочет найти ощущение женщины, умирающей в буран в снеговых сугробах. Анечка же работала в Музее обороны. Занималась реставрацией окраски зала Кировского театра. Жизнь кипела. По случаю моего приезда Анечка убежала в какую‑то из квартир в недрах дома, к какой‑то бывшей владелице квартиры, у которой всегда можно было купить водку. И вихрем же примчалась обратно с поллитром. Выпив, маэстро не говорил о том, как жить, а все больше смеялся, что не было ему свойственно в двадцатые годы. Появился он после этого у нас в гостинице «Москва». Он был художественным руководителем Ломоносовского завода. Получил орден Ленина — по совокупности. За выставки и завод.
И вскоре снова ринулась Анечка туда, где страшней, словно в водопад. Оформлять зал Мариинского театра она кончала. И напечатана была поэтому беседа с ней, полная теоретических ее высказываний, в «Ленинградской правде». Очень сердился Натан Альтман по этому поводу: «Вот эта манера школы. Скажите, пожалуйста, восстановила окраску зала, хотя бы и новую придумала, — чего ж тут разводить философию! Покрасили — вот и весь смысл. Вопрос один — хорошо или плохо». Работала Анечка и на Ломоносовском заводе. Но в маэстро с горьким дымом и серным пламенем заиграли душевные вихри и телесные страсти. Он убедил Анечку взять к себе дочку его, Нину. История эта длилась долго и мучительно. Девочка появлялась с бабушкой и дедушкой, которые потом исчезали. Тут же примешалась история с мастерской. Анечка устраивала себе свою, а маэстро — свою, причем он собирался жениться на какой‑то девице. Но не позволял Анечке уходить от него совсем. Это было бы для него погибельно. А в квартире у них поселилась Анечкина сестра со своим сынишкой. Муж ее умер в блокаду. И Анечка приняла ее. Быстрая, шустрая, веселая, носилась она по всем своим службам, объяснялась до утра с маэстро — иначе он не мог — и возилась со всеми своими подопечными. И Нинка — дочь маэстро — привязалась к ней, как к родной матери. И оставшиеся от прежних времен художники ходили к ней и вели длиннейшие трудно- понимаемые разговоры. И Анютка вела их, словно богомолка с юродивыми. И в нее влюблялись еще. И она, продолжая любить маэстро или мучения, исходящие от него, отвечала иным влюбленным взаимностью. И принимала набор травок, открытый каким‑то чудом врачихой Кириченко, и веровала в них со страстью, как в психоанализ. И всем она была нужна. Вся семья жила ею.


























