Позвонки минувших дней
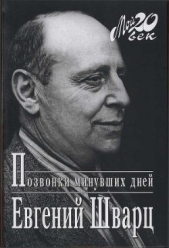
Позвонки минувших дней читать книгу онлайн
В дневниках одного из лучших советских драматургов Евгения Львовича Шварца (1896–1958) без прикрас рассказано о его собственной жизни и о десятках близко знакомых ему людей — С. Маршаке, К. Чуковском, Д. Хармсе, Н. Олейникове, М. Зощенко, Л. Пантелееве, Б. Житкове, К. Федине, В. Шкловском, М. Слонимском и др.
Читатель встретит на страницах умного, тонкого, открытого, доброжелательного, ироничного собеседника, иногда — беспощадного критика и всегда — тонкого стилиста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но в суете, в беспокойстве, в бегстве к врачу собралась она только недели через две, когда ребро уже само по себе начало кое‑как срастаться. Перемогалась, переносила боль, все такая же шустрая и веселая, как и при целом ребре. Вчера была она у нас, принимала ванну — она живет в мастерской, где ванны у нее не имеется. Пришла веселая, серая от усталости, с отекшими верхними веками, нависшими над глазами. Когда вышла из ванны, то словно после отпуска расцвела. Светлые ее, круто вьющиеся, жесткие волосы, подсохнув, гривой поднялись над лбом. И вся она сияла от оживления. Рассказала о Нинке, с которой поссорилась в воспитательных целях, а теперь помирилась. Помянула с глубокой верой Кириченко. Но спросила, не могу ли я устроить ее через Литфонд к Сорокиной, известной гомеопатке. Увидала фотографии скульптур Коненкова, и лицо ее приняло то самое выражение, что я так люблю у художников. Непритворно отреченное. Она замолчала, как верующий на молитве. И потом заговорила неясно, неточно, как всегда говорят художники. После завода, после работы, дома была все той же — ни признака слабости или усталости. Все та же Анечка, какую встретил 27 лет назад.
Сегодня днем во втором часу в первый день Масленицы у Наташи родилась дочка [150]. Вчера, когда отвезли Наташу к Отто по нашему настоянию, «родовая деятельность», как сказали по телефону из лечебницы, у нее прекратилась. Наташа звонила Олегу, плакала, просила взять ее домой. В десять звонила к нам, не застала меня, говорила с Катюшей. Просила перевести хоть в дородовое, здесь уж слишком жутко. Кто‑то сказал ей, что «родовая деятельность» может возобновиться и через месяц только. Просила передать мне, чтобы я не беспокоился, не думал, что она мучается. А я не мог простить себе, что мы заставили ее ехать в больницу. Ей так хотелось провести воскресный день дома. «Тут так хорошо». Всю ночь меня мучили кошмары, просыпался я от несуществующих звонков. Утром — полное молчание. В начале одиннадцатого Катюша дозвонилась до лечебницы Отто. Докторша сообщила, что схватки начались уже настоящие и что Наташе можно привезти апельсинов и шоколаду. Теперь они дают это, чтобы подкрепить рожениц. Я поехал к Андрюше, который встретил меня радостно, но и растерянно: чувствовал, что назревают какие‑то события. Маму увезли! Феня уделила два апельсина из Андрюшиных запасов, из пяти штук, и я поехал к Отто. Снова я в больничной атмосфере, среди ожидающих. Докторша сообщает, что схватки идут уже два часа. Она надеется позвонить мне часа через три и сообщить, кто родился. Домой иду пешком, чтобы скорее пролетело время. И едва я пришел и поговорил с Катей — звонок: «Поздравляю с внучкой». Скоро узнаём вес: три кило триста. То есть восемь фунтов с четвертью. Звоним всем. Но я еще боюсь.
Вчера состоялась премьера «Двух кленов» [151]. Успех был, но не тот, который я люблю. Мне все время стыдно то за один, то за другой кусок спектакля. Возможно, не я в этом виноват, но самому себе этого не докажешь. Видимо, с ТЮЗом московским, несмотря на дружеские излияния с обеих сторон, мне больше не работать. Тем не менее и успех, и атмосфера успеха имелись налицо, и даже в ресторан ВТО пошли мы небольшой компанией с Чуковским, и Рыссами, и Тусей, и Даней. И режиссером, и Якушкиной. И сегодня проснулся я без горестных ощущений. Потому что, уезжая, ждал я худшего. Уезжая из Москвы в прошлый раз. Сегодня в три часа мне предстоит встреча с Лобановым. После этого только решу я, когда мне ехать: сегодня или подождать немножко. И побывать завтра у Кавериных в Переделкине. Не знаю, чего мне хочется. Сейчас без четверти двенадцать. В коридоре уборщицы разговаривают, бренчат ведрами, звенят ключами. Солнце то покажется, то скроется. Номер у меня длинный, крошечный, причитающаяся ему мебель еле умещается. Письменный стол до половины против кровати. Полшага между ними. Позади кровати столик с телефоном и высокой настольной лампой с оранжевым абажуром, длинная бахрома которого мешает, когда читаешь ночью. Приходится класть лампочку на стул возле кровати, а бахрому откидывать. Между кроватью и дверью — массивный, не по номерку, шкаф с зеркальной дверцей. Против него вделана в стену умывальная фаянсовая раковина. Над ней — большое квадратное зеркало. На письменном столе, кроме пластмассового письменного прибора, — два чайника: большой никелированный и малый фарфоровый. Я могу сбегать к титану за кипятком, если захочу. Кроме того, стоит против меня стеклянный кувшин и целых три стакана. Стол покрыт стеклом. Вот и всё.
Тетрадь эта перестает быть помощником. Напишу две страницы — и совесть спокойна. В прозе я чувствую себя, как и прежде, не свободным. Свободу, подобие свободы, приобретаю, только оторвавшись от самого себя, от себя лично, рассказывая о людях более или менее близких. О совсем близких говорю также связанно, как о себе самом. Словом, нужно отказаться от прозы или найти новый способ упражнений, кроме этого, успокаивающего совесть. А отказаться от него, от этого вида прозы, как будто и жалко. Через мое неумение иногда вдруг выступает и правда…
Был сегодня в городе на премьере «Гамлета» в постановке Козинцева [152]. Временами понимал все, временами понимал, что не хватает сегодня сил для того, чтобы все понять. Поставлена пьеса ясно и резко, с музыкой, ударами грома, с подчеркнутой пышностью декораций на огромной сцене. Я давно не был в театре. Понимать Шекспира — это значит чувствовать себя в высоком обществе, среди богов. И я временами наслаждался тем, что до самой глубины без малейшей принужденности чувствую то, что происходит на сцене…
Второй день идет снег, отчего на душе еще неопределенней. Был вчера у Козинцева [153]. (Мы вечером приехали в город.) Он все тот же. Он не ограничен. Никак. Но границы его резко очерчены. Он не то что не может, а не хочет переходить за них. Черта здоровая. Но все тот же матовый, дневной, более джентльменский, чем у Акимова. К этому основательное знание Шекспира и нелюбовь к Мольеру, что подтверждает мое предположение о склонности человека к писателям, которые поражают его, непонятны ему своей противоположностью. Вернувшись от Козинцева домой, я совсем было заболел. Удивился даже. О своих болезнях я обычно молчу, а тут пришлось попросить валидола. За этот год я постарел. Непривычно и то, что нет у меня сейчас отложенной работы. От этого неопределенность на душе растет. После того как в Москве испытал я подобие успеха и «Медведь» был как бы принят в два театра — сейчас затишье. И на душе тревожно…
Не хочется читать, и я решил закончить эту счетную тетрадь, семнадцатую из начатых в Кирове двенадцать лет назад [154]. По- настоящему я взялся за них в пятидесятом году, — до того заполнил я не полностью три, а с тех пор веду к концу четырнадцатую, и удивляюсь, и все не могу налюбоваться. Впервые в жизни мне удается пересилить себя и что‑то делать ежедневно. И страсть к чтению едва — едва, постепенно — постепенно заменяется склонностью к писанию. Я отвожу старательно мысли о старости. Я начал поздно и хочу кончить как можно позже. И я стал писать лучше — чего же мне думать тут? Иной раз я думаю, что, может быть, эти ежедневные записи и вредят. Мне иной раз кажется, что обрывки — не дело. Если не объединишь в целое, в единую форму, то все равно что и не рассказал ничего. А иной раз я думаю, что форм куда больше, чем кажется. Самый большой успех в театре пережил я четырнадцать лет назад, как раз в апреле — прошла «Тень» у Акимова. Сила очень определенная, но не знаю, добрая или злая, спешит всегда отрезвить меня. После генеральной репетиции от пяти часов дня до вечера я верил в полную победу и был счастлив.
Рассчитываю я, что мои тетрадки прочтутся? Нет. Моя нездоровая скромность, доходящая до мании ничтожества, и думать об этом не велит. И все же стараюсь я быть понятным, истовым, как верующий, когда молится. Он не смеет верить, что всякая его молитва дойдет, но на молитве он по меньшей мере благопристоен и старается быть правдивым…


























