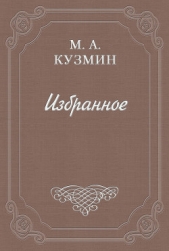Михаил Кузмин
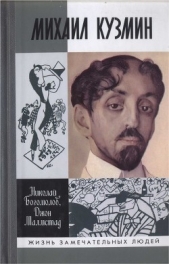
Михаил Кузмин читать книгу онлайн
Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.
знак информационной продукции 16+
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Совершенно очевидно, что в стихотворении есть какая-то сюжетика. Что-то (вероятно, убийство) произошло, несомненно потрясение поэта, но мы не можем сказать, что именно случилось: как, почему, даже с кем. Для того чтобы все это понять, надо обратиться уже не только к дневнику Кузмина, но и к трагическим событиям лета 1924 года. История эта описывалась уже много раз [644], поэтому изложим ее вкратце.
17 июня 1924 года Кузмин записал: «Вчера утонула Лидия Иванова, каталась с каким<и>-то ком<мунистическими> мальчишками вроде Сережи Папариг<опуло>». Характерно здесь появление брата кузминского приятеля драматурга Бориса Папаригопуло. 15 мая 1922 года Кузмин записал в дневник: «…ко мне прилетел Борис Папаригопуло от следователя. Для романа водится Бог знает с кем. Приглашали его даже смотреть на расстрел. Делают это на Ириновской жел<езной> дороге, осужденные копают могилу, потом и<х> заставляют прыгать в нее и в это время стреляют. Часто закапывают еще живыми».
История же, случившаяся в 1924 году, заключалась в том, что восходящая звезда балета Мариинского (тогда переименованного в Академический театр оперы и балета) театра Лидия Александровна Иванова (родилась в 1903 или 1904 году), катаясь на лодке по Финскому заливу, попала в крушение: на лодку натолкнулся рейсовый пароход и двое из пятерых пассажиров лодки погибли. По городу поползли слухи, тайно или явно отразившиеся и в печатных материалах, что Иванова стала жертвой не несчастного случая, а рассчитанного убийства, организованного то ли ГПУ, то ли балетной примой того времени Ольгой Спесивцевой, положению которой в труппе Иванова угрожала. Ни тот ни другой слух при самом тщательном исследовании не выдерживает критики. Однако их явно поддерживал отец Ивановой, знакомый с Кузминым, который всячески создавал атмосферу тайны. За три месяца до создания «Панорамы с выносками» Кузмин занес в дневник: «Вызвали Сандру [645]. Она и едет в Персию. Они говорили как заговорщики. Она подруга Вырубовой, пишет дневник, который выкрал Семенов [646], она в свою очередь выкрала у него и переписала. Хранится где-то на 1-ой линии. Переводится на англ<ийский> язык. Иванов делает вставки насчет Спесивцевой и думает, что это будет важный документ. За ним, по его мнению, следят. Вообще тайн масса» (6 марта 1926 года).
Смысл стихотворения начинает, с одной стороны, несколько проясняться (становится понятно и убийство, и балет, и «стареющая персиянка», и поддельный документ [647], и многое другое), а с другой — двоиться и троиться, умножаться, чтобы тем самым уйти от однозначного понимания. В область классического балета, которая видится Кузмину как «совсем особая, ни с чем не сравнимая, несколько отвлеченная и как бы вневременная. Это страна, где чувства, страсти, страдания, смерть так просветлены, преображены, что нет места натуралистическим ужасам, дикому веселью, оргиазму, рвущему все формы и преграды» [648], вторгается нечто ему принципиально чуждое. Это может быть, как предполагали ранние исследователи текста, вмешательство грубой жизни, или же, как доказывает Д. Хитрова, болезненное воображение отца Ивановой, — но в любом случае речь идет о названном противопоставлении.
И чем пристальнее мы будем вчитываться в стихотворение и отыскивать подобия его образам, тем очевиднее будет умножение смысла. Так, «таинственный знакомый знак», висящий «над девичьей постелью в изголовьи», как кажется, вполне соответствует фразе из дневника Кузмина о комнате С. Г. Спасской, сестры Б. Г. Каплуна, согласно слухам, замешанного в «убийство» Ивановой: «Над постелью Софьи Гитмановны знак Розенкрейцеров. Вот оно что!» (9 мая 1926 года, за месяц до «Панорамы с выносками»). И в других записях 1926 года о ней находим много сходства со стихотворением: «Гитмановна как фарфоровая ведьма» (вспомним: «Кто выпивает кровь фарфорных лиц?»); «Влеченье род недуга я испытываю к Гитмановне. Мне все представляет<ся>, как в < 19> 19 году в пустом Ленингр<аде> она каталась со Спесивцевой с гор в запертом Летнем саду. В ней есть какая-то прелесть времени военного коммунизма, жуткая и героическая, не без ГПУ. И тут же эта живая покойница от балета — Спесивцева» (1 июня и 15 ноября 1926 года).
Вряд ли Спасскую можно представить себе одним из персонажей этого стихотворения, но в то же время довольно очевидно, что некоторые темы, с нею связанные в сознании Кузмина, перекочевали и в «Темные улицы…». Отчасти они поясняют и антропософский термин «имагинация» — Спасская была деятельной антропософкой [649]. Не будем разбирать стихотворение подробно, важно подчеркнуть, что поздняя поэзия Кузмина становится не просто «темной», как об этом писали многие. Ее «темнота» основана на глубоко личностном переживании событий частной жизни и их сопряжении с животрепещущими для современности темами. Для этого Кузмин использовал самые различные способы: цитирование широкого спектра разнообразных источников (от оперетты и жестокого романса до религиозных и магических текстов), причем «цитаты» комбинируются, накладываются друг на друга и тем самым оказываются в высшей степени полисемичными; смешение реальных биографических фактов с воображаемыми картинами; оживление в своей и читательской памяти отголосков отдельных строк и образов, восходящих к прежним контекстам самого Кузмина [650]; активизация ассоциативного мышления, которому надлежит улавливать связи между разобщенными прежде предметами, а также довольно много других поэтических «хитростей», которые еще наверняка не однажды будут подвергнуты тщательному литературоведческому анализу. Но анализ анализом, а самый обыкновенный читатель, впервые берущий в руки книгу стихов Кузмина, при минимальной степени чуткости к поэзии получает наслаждение от этих стихов, завораживающих, помимо содержания, самим звучанием, интонациями, поначалу смутно ощущаемыми образами, которые сплетаются в причудливые картины.
Все это делает его творчество лежащим на центральном направлении развития русской поэзии XX века, а отчасти — и развития поэзии мировой. Но в силу обстоятельств жизни всей страны и самого поэта оно оказалось оборванным. Мы почти не знаем того, что писал Кузмин в 1930-е годы, потому что и поэту, и его друзьям было ясно: время для творчества такого рода в России то ли уже прошло, то ли еще не настало. При стремительно нарастающей ориентации официально поощряемой литературы на примитивную «простоту» и «общепонятность» поэтов типа В. Гусева или В. Лебедева-Кумача, нечего было и думать о продолжении тех исканий, которые привели к «Форели».
Не лучшим (а может быть, даже в каком-то отношении и худшим) образом обстояло дело с прозой. Мы уже упоминали, что в середине 1920-х годов Кузмин создает два произведения, опубликованные лишь в 1980-е, — «Печка в бане» и «Пять разговоров и один случай». Видимо, совпадение случайно, но от того не менее характерно: в названии второго из этих прозаических текстов словно предсказаны названия двух принципиально важных для писателей-обэриутов уже в 1930-е годы вещей — цикла рассказов Хармса «Случаи» и большого философско-драматического трактата в стихах и прозе Введенского «Некоторое количество разговоров». Действительно, Кузмину задолго до тридцатых годов, когда Хармс и Введенский писали свои вещи, удалось наметить очень многое, что потом получило развитие у них. Даже самый предварительный анализ [651] показывает, что старшего автора сближало с младшими очень многое. Уже в первых стихах Введенского, которые он отправил для чтения Блоку и которые дошли до нас, использованы многие тематические и ассоциативные ходы, характерные для поэзии Кузмина того времени [652]. Впервые увидев Введенского, Кузмин назвал его «мистиком-футуристом», что, с одной стороны, весьма точно отражает особенности творчества Введенского, причем не только совсем раннего, но и эпохи ОБЭРИУ и даже более позднего, а с другой — близко исканиям самого Кузмина в 1920-е годы. Даже сама интонация «Печки в бане» и «Пяти разговоров…» чрезвычайно напоминает интонацию прозы Хармса, ее нарочитую примитивность, скрывающую глубокое и серьезное содержание. Роднит Кузмина и обэриутов стремление к пародийности, причем не внешнего слоя каких-либо определенных произведений, а к пародированию глубинных слоев мышления, в том числе и творческого. Но, вероятно, самое главное и самое существенное, что заставляет видеть в исканиях Кузмина предвосхищение опыта обэриутов уже 1930-х годов, — это его стремление в кажущихся наивными и стоящими на грани юмористики формах гротескного преломления современной действительности увидеть за показным ее благополучием и механической примитивностью внутреннюю несостоятельность всего жизненного строя, претендующего на создание царства блаженной гармонии. Трагизм поздних произведений Хармса и Введенского, конечно, был обусловлен еще и тем, что они писали примерно через десять лет после Кузмина, и их констатации не только косной неизменности человеческой природы, но и решительного ее изменения в сторону худшую выглядела совсем уж крамольной, но зато проза Кузмина 1920-х годов выглядела явно пророческой, способной предугадать направление развития не самого, конечно, социального строя (вряд ли даже он мог тогда предвидеть масштабы трагедии 1930-х), но тех черт человеческого характера, которые воспитывались и культивировались этим строем.