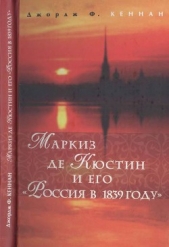Россия в 1839 году. Том второй
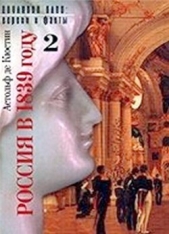
Россия в 1839 году. Том второй читать книгу онлайн
Новое издание полного перевода на русский язык знаменитой книги маркиза де Кюстина. Перевод сопровождается подробным комментарием, разъясняющим культурно-исторические, литературные и политические реалии. Для этого издания статья и комментарии были существенно переработаны и дополнены.
Во втором томе своих записок Астольф де Кюстин продолжает рассказ о поездке по России: описывает посещение Ярославля, Нижнего Новгорода и подводит итоги своего путешествия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я вдвойне рад был — за московского узника и за себя самого — оставить эти места, некогда знаменитые своею разнузданною вольностью, ныне же опустошенные так называемым «порядком», который здесь равнозначен смерти.
Как ни торопился, в Петербург я прибыл лишь на четвертый день; и, едва выйдя из коляски, сразу поспешил к г-ну де Баранту.
Он еще не знал об аресте г-на Перне и был, казалось, удивлен, что узнает о нем от меня, тем более что я затратил на дорогу почти четыре дня. Он еще больше удивился, когда я поведал ему о своих бесплодных беседах с консулом, о попытках уговорить этого официального заступника французов похлопотать за арестанта.
Внимательность, с какою выслушал меня г-н де Барант, его обещания предпринять все необходимое для выяснения дела и ни на минуту не упускать его из виду, не распутав весь узел интриги; важность, которую он, казалось, придавал малейшим происшествиям, затрагивающим достоинство Франции и безопасность наших сограждан, — все это успокоило совесть мою и развеяло призраки, рожденные моим воображением. Судьба г-на Перне была теперь в руках его естественного покровителя, чей ум и твердость давали несчастному более надежную поддержку, нежели мои старания и бессильные ходатайства {334}.
Я почувствовал, что сделал все возможное и должное, чтобы вызволить человека из беды и, по мере сил не выходя за пределы, поставленные моим положением простого путешественника, защитить честь своей страны. «Безумное» мое воображение сыграло благую роль. Поэтому я счел разумным в те двенадцать или пятнадцать дней, что провел еще в Петербурге, не произносить более имени г-на Перне в присутствии г-на посла и уехал из России, не зная, как развивалась далее история, в начале своем столь сильно меня озаботившая и взволновавшая.
Но, скоро и вольно держа свой путь во Францию, я не раз мысленно возвращался в московскую темницу. Если б я знал, что там происходило в те дни, я бы тревожился еще сильнее [63].
Последние дни своего пребывания в Петербурге я употребил на посещение некоторых учреждений, которых не смог повидать при первом приезде в этот город.
Князь *** показал мне в числе прочих достопримечательностей огромный Колпинский завод — главный русский арсенал, расположенный в нескольких лье от столицы. На этом заводе изготовляется все необходимое для императорского флота. Ехать в Колпино семь лье, причем вторая половина дороги очень скверная. Заводом управляет англичанин, г-н Вильсон, удостоенный генеральского звания (в России все носят мундир) [64]; он добросовестно, как истый русский инженер, показал нам свои машины, не давая пропустить ни единого гвоздя или гайки; в сопровождении его мы обошли около двадцати цехов огромного размера. Со стороны управляющего такая чрезвычайная любезность заслуживала, вероятно, сугубой признательности; я же восхищался весьма сдержанно, да и то выказывал больше энтузиазма, чем действительно ощущал: усталость делает неблагодарным, почти так же, как и скука.
Самое замечательное, что встретилось нам во время поневоле долгого осмотра колпинских механизмов, — это машина Брамаха {335}, посредством которой испытывают на прочность якорные цепи для наиболее тяжелых кораблей; могучие стальные звенья, устоявшие против усилий этой машины, смогут удержать и судно при самых резких порывах ветра и ударах волн. В машине Брамаха для измерения прочности железа остроумно используется давление воды; это изобретение меня восхитило. Осмотрели мы также шлюзы, предназначенные для спуска избыточной воды при особо мощных паводках. Эти необычные шлюзы действуют главным образом весной; иначе ручей, вращающий машины, не приводил бы в движение весь завод, а чинил бы неисчислимые разрушения. Дно каналов и шлюзовые опоры покрыты толстыми листами меди, так как этот металл якобы лучше гранита переносит зиму. Нас уверяли, что подобного не увидишь больше нигде.
Колпино вновь поразило меня тою неумеренною грандиозностью, что присуща всем полезным сооружениям, построенным русским правительством. Это правительство почти всегда присовокупляет к необходимому немало излишнего. У него так много действительной мощи, что низкие уловки, посредством которых оно обычно пускает пыль в глаза иностранцам, не должны вызывать в нас только презрение; такая хитрость совершенно бескорыстна, ее следует отнести к прирожденным склонностям национального характера: ведь люди лгут не только по малодушию, но часто и оттого, что от природы наделены даром искусно лгать; это особый талант, а любой талант желает выказать себя.
Когда мы сели в экипаж, чтоб ехать назад в Санкт-Петербург, уже стемнело и похолодало. Обратный путь был сокращен приятною беседой; особенно запомнилась мне следующая история. Она помогает понять, насколько всевластен над действительностью абсолютный монарх. До сих пор я видел, как русский деспотизм повелевает мертвецами, храмами, историческими событиями, каторжниками, арестантами — вообще всеми теми, кто не может заговорить и воспротивиться злоупотреблениям власти; на сей раз мы увидим, как император российский навязал одной из знатнейших семей Франции такое родство, о котором она и не думала.
В царствование Павла I жил в Петербурге француз но имени то ли Лаваль, то ли Ловель {336}; будучи молод и приятен собою, он понравился одной весьма богатой девице, в которую сам был влюблен; семейство юной особы находилось тогда в немалой силе и почете; оно воспротивилось браку с незнатным и небогатым иностранцем. В отчаянии двое влюбленных решились на средство, достойное романа. Они подкараулили императора, когда тот проезжал по улице, бросились ему в ноги и попросили его заступничества. Павел I — который бывал добр, когда не бывал безумен, — пообещал добиться согласия семьи и убедил ее такое согласие дать — убедил, надо думать, различными доводами, но особенно же следующим: «Барышня ***, — сказал он, — выходит замуж за господина графа де Лаваля, молодого французского эмигранта, отпрыска знатного рода и обладателя значительного состояния» [65].
Получив таким образом — хотя, конечно, лишь на словах — изрядное приданое, молодой француз женился на барышне ***, родственники которой, разумеется, не стали перечить императору.
В подтверждение слов государя новоявленный граф де Лаваль гордо велел изваять свой герб на подъезде родового особняка, где поселился с молодою супругой.
К несчастью, случилось так, что через пятнадцать лет, уже при Реставрации, в Россию приехал кто-то из рода Монморанси-Лаваль; увидав нечаянно герб на подъезде, он стал наводить справки; ему рассказали историю г-на де Лаваля.
По его требованию император Александр немедленно распорядился убрать герб Лавалей, и подъезд остался голым.
На другой день после поездки в Колпино я подробно осмотрел Академию живописи — великолепное пышное здание, где хранится пока немного хороших работ; да и чего можно ожидать от искусства в стране, где молодые художники носят мундир {337}? Лучше бы уж просто отказаться от всякого труда, для коего потребно воображение. Все воспитанники Академии, как оказалось, состоят на службе, соответственно одеты, выполняют команды, словно кадеты морского училища. Уже это одно говорит о глубоком презрении к тому, чему здесь якобы покровительствуют, или, вернее, о совершенном непонимании законов природы и таинств искусства; даже в открытом равнодушии к художеству было бы не так много варварства; в России свободно лишь то, до чего нет дела правительству; до искусства же ему слишком много дела, да только оно не ведает, что искусство нуждается в свободе и тесная связь между гениальностью творчества и независимостью творца уже сама по себе служит залогом благородства художественной профессии.