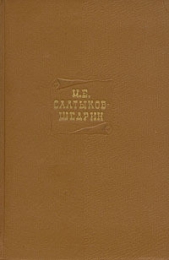Том 6. Публицистика. Воспоминания

Том 6. Публицистика. Воспоминания читать книгу онлайн
Имя Ивана Бунина (1870–1953) — одного из проникновенных, трагических классиков русской литературы, почетного академика изящной словесности, лауреата Нобелевской премии (1993) — известно во всем мире.
В шестой том включено философско-публицистическое сочинение писателя — «Освобождение Толстого», воспоминания о Чехове, мемуарные очерки из книги «Воспоминания». Впервые в советское время публикуется большой пласт Дневников Бунина. В том вошли также избранные статьи и выступления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вообще — листопад, этот желтый мир непередаваем. Живешь в желтом свете.
Сейчас ночь темная, дождь. Был нынче на мельнице. Злобой мужики тайно полны. Разговаривать бессмысленно!
27 сентября. Абакумов: нет, жизнь при прежнем правительстве — куда красней была! Теперь в… нельзя — того гляди — голова слетит.
День несколько раз изменялся. С утра было холодно. Все вспоминаю противный разговор на мельнице — Л<нрзб>, придирающийся к винокуру, к монопольщику, лгавший, что его мальчишку бросил австриец в окно завода, грозивший «убить» — теперь это слово очень просто! — солдат Алешка…
Ездил с Колей кататься. Лес все рубят.
28 сентября. Почти летний день. Разговор за <в автографе описка: на. — А. Б.> мельницей с «Родным» и другими, шедшими из потребиловки.
Вечером что-то горло.
29 сентября. Не выхожу. Больно железу, в горле что-то есть. Летний день. Все читаю Фета. Как много…!
30 сентября. Горло ничего, слава богу. Гуляли. На гумно Андрея С. — там молотьба. А. Пальчиков в очках черных в кожаном футляре подает, серо-бурая борода, темна по окраинам на щеках (как… — <нрзб> — как многие старики), бабы одно и то же: «что гуляете, идите к нам солому тресть». По деревне к лесу. День летний. Поразил осинник на мысу — совершенно оранжевый, и так выделилось каждое дерево и выпуклость бугра, и до неприятности похоже на гигантского ужа. Извив тропинки по бугру. Поразителен и осинник в лощине в начале леса, такой же. Все, весь лес необыкновенно сух, шуршит, и непередаваемо прекрасный запах подожженных сушью, солнцем листьев. Блеклая трава засыпана листвой, дубовая листва коричневая на опушке, — дубы все шуршат, все бронзово-коричневые.
Говорил, как ничтожно искусство!
Поразила декларация правительства, начало: анархия разлилась от Корнилова! О негодяи! И все эти Кишкины, Малянтовичи! Ужасны и зверства и низость мужиков легендарны.
1 октября. Утром вышел — как все бедно стало: сад, солнце, бледное небо. Потом день превосходный. Ездили с Колей к Победимовым.
И снова мука! Лес поражает. Как он в два дня изменился: весь желто порыжел (такой издали). Вдали за Щербачевкой шапка леска буро-лиловата, точно мех какой на звере облезает. А какой лес по скату лощины! Сухая золотая краска стерта с коричневой, кленоватой.
2 октября. Проснулся в шесть. Лежал час. Душа подавлена. Юлий, думы о том, что, может, скоро опустеет совсем мир для меня — и где прежнее — беспечность, надежда на жизнь всего существа! И на что все! И еще — совсем отупела, пуста душа, нечего сказать, не пишу ничего, пытаюсь — ремесло, и даже жалкое, мертвое.
Вчера воззвание Брешко-Брешковской к молодежи — «идите, учите народ!».
Ночью гулял — опять все осыпано бриллиантами сквозь голые ветви. Григорий идет от кума — «пять бутылочек на двоих выпили». «И ты не выпивши?» — «Да нет, ведь я ее чаем гоню…»
Нынче еще беднее утро, хотя прелестное и свежее, бодрое. Уже на кленах на валу на немногих и местами желтая, еще густая листва.
3 октября. Вчера в три часа с Колей в Осиновые Дворы. Скородное издали — какой-то рыже-бурый медведь. Ехали через Ремерский лес. Дубки все бронзовые. Сквозь него изумительный пруд, в одном месте в зеркало льется отражение совершенно золотое какого-то склоненного деревца. Караулка, собачонка так зла, что вся шерсть дыбом, — знакомая; выскочил тот старик, радостно-шальной, торопливый, бестолковый, что видел в Скородном. Федор Митрофаныч, конечно, солгал, что у Ваньки отняли ружья, был скандал, он стрелял уток барских на пруде возле этой караулки, но не отняли. «Как ты попал сюда?» — «Позвольте, сейчас…» Страшно-радостно и таинственно: «Поросенка пошел куплять, у Борис Борисыча… Борис Борисыч отвечает…» (вместо «говорит» и очень часто не кстати: хотя). Были в Польском (деревушке). Два совершенно синих пруда — сзади нас, как въезжали на гору — предвечернее солнце. Поразили живописность и уединение Логофетовой усадьбы. Сад, да и ближе деревья — главное рыже-бронзовое, бронзовое. Наше родовое. Охватила мысль купить. Стекла горят серебряной слюдой, луч<езарными> звездами в доме, издали. В Осиновых Дворах два мужика: один рыжий, нос картошкой, ласково-лучистый, профессор, другой — поразил: IV <?> в., Борис Годунов, крупность носа, губ, толстых ноздрей, профиль почти грозно-грубый, черные грубые волосы, под шапкой смешаны с серебром. Должно быть, древние люди, правда, не те были. Какое ничтожество и мелкость черт у ребят молодых! Говорили эти мужики, что они про новый строй смутно знают. Да и откуда? Всю жизнь видели только Осиновые Дворы! И не может интересов<аться> другим и своим государством. Как возможно народоправство, если нет знания своего государства, ощущения его, — русской земли, а не своей только десятины!
Шесть часов вечера. Сейчас выходил. Как хорошо. Осеннее пальто как раз в пору. Приятный холодок по рукам. Какое счастье дышать этим сладким прохладным ветром, ровно тянущим с юга вот уже много дней, идти по сухой земле, смотреть на сад, на дерево, еще оставшееся в коричневатой листве, краснеющей не то от зари (хотя заря почти бесцветна), не то своей краской. Вся аллея засыпана краснеющей, сухой, сморщенной листвой, чем-то сладко пахнущей. Как нов вид на сквозной сад, сквозь который за долиной воздух чуть з<е>леноват, и заря наполняет весь сад розоватым светом. Почти все голо, почти все клены на валу и аллея и т. д., лишь яблони в золотисто-бронзоватой мелкой мертвой листве.
Правительство «твердо решило подавить погромы». Смешно! Уговорами? Нет, это не ему сделать! «Они и министры-то немного почище нас!» Вчера в полдень разговор с солдатом Алексеем — бешено против Корнилова, во всем виноваты начальники, «мы большевики, протолериат, на нас не обращают внимания» <…>.
Нынче хорошее настроение, написал два стихотворения <нрзб>.
Гулял в Колонтаевку, послал утром книгу Белевскому (последний том «Нивы» в переплете).
Нет никого материальней нашего народа. Все сады срубят. Даже едя и пья, не преследуют вкуса — лишь бы нажраться. Бабы готовят еду с раздражением. А как, в сущности, не терпят власти, принуждения! Попробуй-ка введи обязательное обучение! <…> А как пользуются всяким стихийным бедствием, когда все сходит с рук, — сейчас убивать докторов (холерные бунты), хотя не настолько идиоты, чтобы вполне верить, что отравляют колодцы. Злой народ! Участвовать в общественной жизни, в управлении государством — не могут, не хотят за всю историю.
Прогулка в Колонтаевку была дивна: какая сине-темная зелень пихт не пожелтевших! (Есть еще такие, хотя большинство все дорожки усыпали своими волосами.) Шли дорожкой — впереди березы, их стволы, дальше трубы тонкие пихт, серая тьма и сквозь это — сине-каменное небо (солнце было сзади нас, четвертый час). Бёклин поймал новое, дивное. А как качаются эти тонкие трубы в острых сучках на стволах! Как плавно, плавно и все в разные стороны!
Возле бахтеяровского омета сквозь голый сад видна уже церковь. Как ново после лета!
Интеллигенция не знала народа. Молодежь Эрфуртскую программу учила!
4 октября. Вчера было радостное возбуждение — подумал: будет дождь. Так и есть. С утра очень тихо, дождь. Щеглы на «главном» клене. Потом ветер. Часов с трех повернул — с северо-запада. Образовалась грязь. Заходили на мельницу, к Колонтаевке. Листва (почти не изменилась) на сирени. Про яблони, кажется, неверно записал вчера — оне… ну, грязная золотистая охра, что ли, с зеленоватым оттенком. Яблони еще все в листве (такой).
Все читаю Фета (море пошлого, слабого, одно и то же), пытаюсь писать стихи. Убожество выходит! <…>