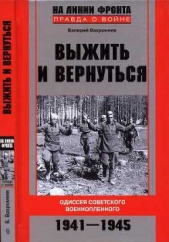Зигзаги судьбы. Из жизни советского военнопленного и советского зэка
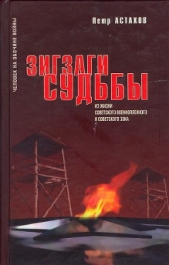
Зигзаги судьбы. Из жизни советского военнопленного и советского зэка читать книгу онлайн
Судьба провела Петра Петровича Астахова поистине уникальным и удивительным маршрутом. Уроженец иранского города Энзели, он провел детство и юность в пестром и многонациональном Баку. Попав резервистом в армию, он испытал настоящий шок от зрелища расстрела своими своего — красноармейца-самострельщика. Уже в мае 1942 года под Харьковом он попал в плен и испытал не меньший шок от расстрела немцами евреев и комиссаров и от предшествовавших расстрелу издевательств над ними. В шталаге Первомайск он записался в «специалисты» и попал в лагеря Восточного министерства Германии Цитенгорст и Вустрау под Берлином, что, безусловно, спасло ему жизнь. В начале 1945 из Рейхенау, что на Боденском озере на юге Германии, он бежит в Швейцарию и становится интернированным лицом. После завершения войны — работал переводчиком в советской репатриационной миссии в Швейцарии и Лихтенштейне. В ноябре 1945 года он репатриировался и сам, а в декабре 1945 — был арестован и примерно через год, после прохождения фильтрации, осужден по статье 58.1б к 5 годам исправительно-трудовых лагерей, а потом, в 1948 году, еще раз — к 15 годам. В феврале 1955 года, после смерти Сталина и уменьшения срока, он был досрочно освобожден со спецпоселения. Вернулся в Баку, а после перестройки вынужден был перебраться в Центральную Россию — в Переславль-Залесский.
Воспоминания Петра Астахова представляют двоякую ценность. Они содержат массу уникальных фактографических сведений и одновременно выводят на ряд вопросов философско-морального плана. Его мемуаристское кредо — повествовать о себе искренне и честно.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Обработанные медом табачные листья наполняли барак приторно дурманящим запахом, оставляя сладковатый привкус меда во рту. Приобщиться к обстановке его прошлой жизни было приятно и окружающим.
Он переписывался с матерью. Письма получал на адрес вольнонаемных, с которыми работал на шахте и которым доверял. Он был в курсе происходящего в Москве. Мне он рассказал о разногласиях с отцом. Разные подходы и оценка действительности развели их, каждый поступал, как он считал нужным. Мать так и не смогла примирить их. Когда Сережу арестовали, она просила у мужа-генерала содействия и помощи. Он добился приема у наркома внутренних дел. Абакумов выслушал его, но просьбу отклонил. И еще предупредил Филипповского: более не беспокоить, так что дальнейшая судьба Сергея была решена.
Я же по наивности думал, что высокое положение Сережиного отца поможет ему достигнуть желаемого. В те времена на помощь не рассчитывали даже самые высокопоставленные деятели государства. Много лет спустя мне стало известно, что, например, даже Молотов и Калинин смирились с участью опальных жен своих и долгие годы ожидали милости вождя на их освобождение.
Расстался я с Сергеем в сентябре 1952 года (очень сожалею, что после освобождения я не сделал попыток найти его в Москве).
По вызову в Красноярской тюрьме
В сентябре 1952 года по наряду Москвы меня отправили за пределы Воркутлага. Куда и зачем; в тюрьму или лагерь; надолго ли, вернусь ли обратно; что ожидает там? Бог знает…
После второго постановления Особого совещания у меня не было больше иллюзий, и я не тешил себя надеждой на освобождение. От срока, полученного в 50-м, прошло всего два года, а оставалось еще восемь.
Зима пришла рано. Дорога к пересылке уже подмерзла и не успела принять снежный покров после недолгого лета. Снежную круговерть подхватывал ветер и уносил в серую мглу скоротечного дня. На душе тревожно и уныло. Опять этап в «Столыпине», и неприятные ассоциации, ничего доброго не сулящие. Предчувствия меня не обманули — дорога после Кирова пошла в сторону от центра: нас везли на Восток.
В памяти остались два долгих месяца дороги и несколько пересылок, где приходилось ожидать этапных «столыпинских» вагонов. За 62 дня мы проехали одиннадцать наиболее крупных городов Коми, Урала и Сибири. В конце ноября 1952 года я прибыл в Красноярск и был определен во внутреннюю тюрьму краевого управления КГБ.
В пятидесятые годы, о которых идет речь, все подобные переезды по нарядам Москвы считались обычным явлением и, вероятно, ни у кого не вызывали требований соблюдать процессуальные нормы осужденных. Дорога могла продолжаться до «бесконечности», и пребывание в тюрьме тоже не ограничивалось сроком, хотя разные статьи и параграфы УПК требовали этого.
В Красноярске стало известно, что вызов мой организовало следственное управление Красноярского края, чтобы использовать на суде в качестве свидетеля. Я должен был опознать военнопленного из лагеря Вустрау: скрыв свою принадлежность к особому лагерю, он избежал ареста после войны и жил до сих пор на свободе. Но миссия моя осталась невостребованной из-за длительного переезда в Красноярск.
Рыжий, веснушчатый, средних лет мужчина, с легко запоминающейся фамилией Ковецкий, действительно, остался в моей памяти. Он говорил с дефектом — шепелявил — и всем обликом своим напоминал ярко выраженного еврея, чудом сохранившегося в условиях немецкого плена. Я запомнил его по этим признакам еще в Вустрау; так что когда мне предъявили его фотографию для опознания, то я сразу узнал его. Может быть, и не следовало этого делать, сославшись на память? А теперь меня решили использовать в качестве свидетеля на суде, и, возможно, мои показания имели бы для него значение.
Однако следствие и суд были уже закончены, Ковецкий получил срок, и его уже отправили в лагерь. Моя миссия оказалась невостребованной.
Но и вернуть меня обратно в Воркуту было тоже непросто — я был один, и нужно было собирать попутчиков. Их не было. В который уже раз я стал заложником обстоятельств. Меня поместили в одну из камер внутренней тюрьмы, где я должен был ожидать оказии для возвращения.
Потянулись томительные дни в Красноярской тюрьме. Меня не вызывали в следственный отдел — не было нужды. Чувствовал, как уходят силы. Обессиленный физически и морально, я с трудом переносил тюремные тяготы. Одолевало малокровие. Нужно было питание и переливание крови. Не было ни того, ни другого. Я имел право лишь на жалобы и заявления, но от них было мало толку.
Однажды вызвали к следователю, который начал интересоваться моим здоровьем и настроением. Странная забота! По вопросам я понял, что мои заявления и жалобы читают в следственном отделе — там знали, что я болен и нуждаюсь в лечении. Следователь решил использовать момент и предложил сотрудничество, рассматривая его, как доказательство моей лояльности. Мой ответ не понравился: «Считайте, что разговора между нами не было».
После этого в Красноярске меня больше не вызывали.
Сибирские морозы давно заявили о приходе зимы. В камерах было темно и тихо. Маленькие фрамуги плохо пропускали дневной свет, и, казалось, день замер на сумерках. Отопление работало исправно, было тепло, и фрамуги часто открывали.
За стенами тюрьмы шла своя жизнь, происходили события, о которых мы ничего не знали, так как были лишены газет и радио. За время этапа состоялся XIX съезд ВКП(б), на котором коммунистическую партию большевиков переименовали в компартию Советского Союза и она обрела новую аббревиатуру — КПСС. Кто мог подумать, что так скоро — в марте 1953 года — произойдут изменения в государственном аппарате и внутренней политике, казавшиеся незыблемыми со дня их рождения?!
А студеная зима все продолжалась. Мороз на окнах все рисовал свои замысловатые узоры. Хотя до весны оставалось совсем немного.
Однажды утром наше внимание привлекла громкая симфоническая музыка, необычная для этого часа. Она звучала недалеко из мощного репродуктора, расположенного на улице. Порывы ветра то уносили ее, то она оказывалась совсем рядом.
Что это значит? Скорбная мелодия походила на реквием. Хотелось подойти к фрамуге и взобраться поближе к открытому окну. Густой снегопад спрятал под своим покровом все вокруг. А снег все сыпал и сыпал…
В эти минуты послышались требовательные окрики дежурного вертухая закрыть фрамуги. Одна за другой громко захлопали «кормушки» в камерах. Дошла очередь и до нас.
Нас оставили в наглухо закрытой камере, изолировав от улицы, откуда уже не неслись звуки траурной музыки. Мы же продолжали гадать, о ком это так скорбил симфонический оркестр.
Нас лишили возможности узнать о важных событиях, происходивших на воле. Не положено — и все! Мало ли, как отреагирует эта сволочь на случившееся? Иди потом доказывай!..
Прошла неделя после случившегося. И вдруг все объяснилось само собой…
На ужин как обычно нам принесли столовую ложку перловой каши. Поужинав и совершив вечерний «намаз», убрали посуду в тумбочку, навели «марафет» в камере и собрались снова читать. До отбоя еще оставалось несколько часов.
Но вот щелкнул замок в двери. Это не на допрос — еще рано. Дверь распахнулась, и на пороге появился новичок. В его руках свернутая постель. Одет в простой бушлат, валенки, шапку-ушанку — лагерная одежда.
Он вошел в камеру, положил постель, снял шапку, поздоровался. Взяли его с воли — до густой копны светлых волос еще не успела добраться машинка тюремного парикмахера. Он стал раздеваться и перед нами предстал очень худой человек, ниже среднего роста, в темной хлопчатобумажной робе. Он представился: Труханов Михаил Васильевич. Лет ему было 35–36. Доброе лицо и большие голубые глаза смотрели открыто и приветливо. Мы приняли его как старшего, отдавая дань «преклонному», по сравнению с нашим, возрасту, хотя в камере были «старожилами».
Не терпелось узнать, кто он, откуда? Если он только с воли, то сможет рассказать о последних новостях и объяснит траурные мелодии.