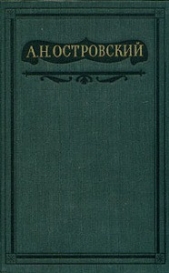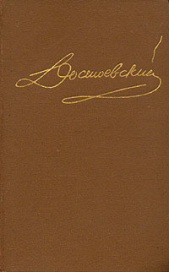Чехов

Чехов читать книгу онлайн
Биография великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860–1904), основанная на серьезном, глубоком анализе творчества и дополненная архивными фотографиями, открывает новые, неожиданные грани жизненной и писательской судьбы, позволяет почувствовать его душевное одиночество: «как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким».
Широта и разнообразие фактического материала, достоверное изображение эпохи и окружения Чехова, нетрадиционный подход к его биографии, любовь к своему герою — вот что отличает книгу Михаила Петровича Громова. Она рассчитана на самый широкий круг читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Почти всегда дерево, упоминаемое в чеховском тексте, осеняет нечто глубоко человеческое, как в начальной странице «Дома с мезонином»: «Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоем. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старушка».
Часто образ дерева хранит в своей глубине воспоминание о душе, долго скитавшейся по свету или всего лишь побывавшей на свете. Так в цветах и листьях «Вишневого сада», так в «Скрипке Ротшильда»: «А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороньи гнезда… И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенчик с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да, это и есть та самая верба — зеленая, тихая, грустная… Как она постарела, бедная!»
Так и в «Трех сестрах», где Тузенбах уходит на дуэль, но — «не будем говорить об этом! Мне весело… Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь! Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. Мне кажется, если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе. Прощай, моя милая…».
Страницы и строки о лесах, цветах и деревьях едва ли не самые совершенные у Чехова, и каждая из них воспринимается как явление природы, как особое благозвучное цветение языка. Фразу Чехова нужно не разбирать даже, как сам он сказал о лермонтовской «Тамани», а изучать с такой же тщательностью и вниманием, с каким серьезный ботаник собирает и изучает цветы.
Напрасно и спрашивать себя, обитаемы ли деревья у Чехова. Да, обитаемы, и не самими собою, а прошлым. Отсюда их таинственная жизнь в нашем сознании и языке, их вечное очарование, о котором лучше всего сказать словами Толстого: «Это была действительность, это было больше, чем действительность: это было действительность и воспоминание». Или Пушкина: «Воспоминание — самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему».
Не орнаментальные лавры и мирты времени классицизма, даже не лермонтовская «чета белеющих берез», не простодушные есенинские рощи золотые с их «березовым веселым языком», а обитаемые — не фавнами, конечно, поскольку фавн вообще не наш, не русский зверь — но нашей душою и памятью образы.
Увидишь старую липу в Москве — и поневоле подумаешь о прабабках и прадедах, а дубы в три обхвата в Коломенском — ведь это Петр I! То есть не «когда это было», как в музее или книге какой-нибудь, а вот оно — живое дерево, с ветвями и молодыми побегами; налетит ветер — и зашумит листва над головой, как шумела при Нарышкиных. А существуют на свете и тысячелетние стволы, секвойи в Америке, уходящие корнями во тьму времен.
Дерево в нашем сознании — живое существо, его и одушевлять-то не нужно: живет, дышит. И в самом деле олицетворяет жизнь («вот эти клейкие, клейкие листочки…»). Оно живет, хранит прошлое — в самом себе, в своей сердцевине. Мелихово, Мураново, Абрамцево, Кусково были еще усадьбами, а не музеями, и вокруг стояли вот эти самые, ну, быть может, потоньше, постройнее, клены, лиственницы, липы, дубы, под которыми бродим теперь и мы, утаптывая землю до плотности асфальта, чтобы на ней ничего уже не росло. Ничего…
«ВИШНЕВЫЙ САД»
«Вишневый сад» — последняя пьеса Чехова; когда он держал в руках ее печатные оттиски, жить ему оставалось недолго, несколько считанных месяцев. Премьера комедии в Московском художественном театре состоялась в день рождения автора, 17 января 1904 года, и с нею «Вишневый сад» вошел в сокровищницу мировой драматургии. Переведенная на все основные языки мира, пьеса не выходит из репертуара и, по сведениям международного театрального ежегодника, где ведется летопись постановок, вот уже много лет идет везде.
«Вишневый сад» стал великой и вечной премьерой мирового театра, об истории его постановок написаны труды. Пьеса открывается заново англичанином П. Бруком, итальянцем Дж. Стрелером, немцем П. Штайном.
Во многих странах «Вишневый сад» воспринимается как национальное достояние. Он был возобновлен в Токио в послевоенном 1945 году, в разрушенном здании театра Юракудза, его смотрели люди, пережившие атомный пожар Хиросимы, по-своему понимавшие финал: «Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина…»
В рецензии Андо Цуруо в газете «Токио симбун», едва ли не первой театральной рецензии после войны, говорилось: «Вновь возвратился в Японию наш любимый Чехов».
Комедия создавалась в 1902–1903 годах для Художественного театра. В эту пору Чехов был уже тяжело болен, работал с непривычной медлительностью, с трудом. В иные дни, судя по письмам, ему не удавалось написать и десяти строк: «Да и мысли у меня теперь совсем другие, не разгонистые…» Между тем О. Л. Книппер торопила его: «Меня мучает, почему ты откладываешь писать пьесу? Что случилось? Так дивно все задумал, такая чудесная будет пьеса — гвоздь нашего сезона, первого сезона в новом театре! Отчего душа не лежит? Ты должен, должен написать ее. Ведь ты любишь наш театр и знаешь, какое ужасное огорчение будет для нас. Да нет, ты напишешь».
В пьесе Ольге Леонардовне предназначалась роль Раневской. Заканчивая работу, Чехов писал жене 12 октября 1903 года: «Пьеса уже окончена, окончательно окончена и завтра вечером или, самое позднее, 14-го утром будет послана в Москву. Если понадобятся переделки, то, как мне кажется, очень небольшие… как мне трудно было писать пьесу!»
Временами Чехову казалось, что он повторяет себя. В известном смысле так оно и было: «Вишневый сад» — дело целой жизни, а не только двух предпоследних, омраченных усталостью и болезнью, лет.
Замыслы (это относится не только к «Вишневому саду», но, по-видимому, ко всем сложным рассказам, повестям, пьесам) возникали задолго до того, как Чехов брался за перо, долго формировались в непрерывном потоке наблюдений, среди множества других образов, сюжетов, тем. В записных книжках появлялись заметки, реплики, завершенные фразы. По мере того как наблюдения процеживались в памяти, возникала последовательность фраз и периодов — текст. В комментариях отмечаются даты создания. Их было бы правильнее называть датами записывания, поскольку за ними стоит перспектива времени, протяженная, дальняя — на годы, на много лет.
В своих истоках «Вишневый сад» восходит к раннему творчеству, к «Безотцовщине», где за долги предков расстаются с родовыми имениями Войницевы и Платоновы: «Тю-тю именье! Как тебе это нравится? Сплыло… Вот тебе и хваленый коммерческий фокус! А все потому, что Глагольеву поверили… Обещался купить имение, а на торгах не был… в Париж уехал… Ну, феодал? Что теперь делать будешь? Куда пойдешь? Бог предкам дал, а у тебя взял… Ничего у тебя не осталось…» (д. IV, явл. III).
Все это уже было в русской литературе до Чехова и не казалось бы новым, если бы не своеобразное чеховское настроение, где странно сочетаются беспечальное отчаяние, чувство роковой вины и полнейшая беззащитность перед силою и обманом: будь что будет, и поскорее бы в Париж…
В повести «Цветы запоздалые», написанной в самом начале 80-х годов, примерно в одну пору с первой пьесой, с теми же мотивами распада старой жизни, дома, семьи, есть очень близкие «Вишневому саду» сюжетные повороты. Некий Пельцер, купец, богач, обещал, как Лопахин Раневской, денежную помощь и спасение Приклонским, и в конце концов за бесценок пустил с молотка княжескую библиотеку: «— Кто ее купил?