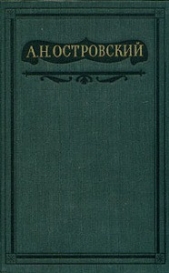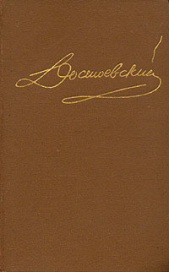Чехов

Чехов читать книгу онлайн
Биография великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860–1904), основанная на серьезном, глубоком анализе творчества и дополненная архивными фотографиями, открывает новые, неожиданные грани жизненной и писательской судьбы, позволяет почувствовать его душевное одиночество: «как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким».
Широта и разнообразие фактического материала, достоверное изображение эпохи и окружения Чехова, нетрадиционный подход к его биографии, любовь к своему герою — вот что отличает книгу Михаила Петровича Громова. Она рассчитана на самый широкий круг читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но, рассчитывая на читателя, Чехов должен был оставить для него какое-то пространство, создавая текст с лакунами между отдельными периодами, главками или частями, непривычный, отрывочный («почему то, а не это? Почему это, а не то?»); текст, удивлявший в свое время Льва Толстого как несомненный, но все же исполненный порядка и гармонии хаос («он кладет краски без всякой связи, а впечатление получается цельным»). Отсюда все концепции чеховского импрессионизма и случайности, отсюда же и самая удачная среди них — «техника блоков», о которой в связи со «Степью» писал шведский филолог-русист Н. Нильсон.
Приходится думать пе о частях и частностях, но об особенных свойствах чеховской прозы, о ее краткости, оставляющей простор для воображения и памяти, о «белом тексте» между отдельными рассказами, позволяющем чувствовать связанность и единство повествования, об открытых финалах, о безответных вопросах в конце, как в «Доме с мезонином», как в «Степи», в «Даме с собачкой», и — в прямой или косвенной форме — едва ли не везде; о стилевой простоте чеховской фразы, в которой всегда чувствуется нехватка определений, и наше воображение пополняет ее в меру своей собственной содержательности и глубины.
Закрытая книга — предмет неодушевленный; чтение — это, в сущности, превращение мертвой материи печатных строк в живую энергию воображения, в сознание переживаемой заново жизни. Книга создает нас, это так; но она и сама создается нами; в конце концов, мы выносим из нее не больше и не меньше того, что сами в состоянии вложить в ее текст силою нашей памяти, вдумчивости и душевной тревоги.
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
В повествовании Чехова есть общая закономерность: движения души человеческой пробуждают далекое эхо в природе, и чем живее душа, чем сильнее порыв к воле, тем звонче отзывается это симфоническое эхо — в «Агафье», «Ведьме», «Шуточке», в рассказе «На пути», в «Черном монахе», «Скрипке Ротшильда» — всюду, во всем пространстве чеховского творчества, до последней сцены «Вишневого сада». Если персонаж не умер при жизни, как Очумелов, как Пришибеев, Чимша-Гималайский и Беликов, стремление к воле рано или поздно просыпается в нем, дает ему крылья, и тогда возникают «Дом с мезонином», «О любви», «Дама с собачкой», «Невеста», и Яков Иванов задумывается над странным порядком, когда от жизни человеку одни убытки, а от смерти польза; и когда он играет на скрипке, то ему вспоминается широкая река, синий бор, от которого теперь ничего уже не осталось, и в воображении проносятся стаи белых гусей, таких же вольных, как те необыкновенно красивые олени, которые промчались перед глазами доктора Рагина в финале «Палаты № 6».
Л. Н. Андреев заметил: «Чехов одушевлял все, чего касался глазом: его пейзаж не менее психологичен, чем люди, его люди не более психологичны, чем облака… Пейзажем он пишет своего героя, облаками рассказывает его прошлое, дождем изображает его слезы…»
Старому русскому читателю, приученному к острым сюжетным коллизиям журнального романа, описании природы казались бессодержательными и чаще всего пролистывались при чтении, как, впрочем, пропускаются они и теперь; интересны они были далеко не каждому, разве что тонкому ценителю лирики.
Но если описания природы в «Степи», во многих других рассказах и повестях ранних и поздних лет — пролистать, то читать будет нечего: пейзажные страницы заключают в себе большую, иногда — основную долю содержания. В позднем рассказе «Ариадна» (1895) природа — последний приют и очарование для потерявшей надежду души: «Представьте же себе большой старый сад, уютные цветники, пасеку, огород, внизу река с кудрявым ивняком, который в большую росу кажется немножко матовым, точно седеет, а по ту сторону луг, за лугом на холме страшный, темный бор. В этом бору рыжики родятся видимо-невидимо, и в самой чаще живут лоси. Я умру, заколотят меня в гроб, а все мне, кажется, будут сниться ранние утра, когда, знаете, больпо глазам от солнца, или чудные весенние вечера, когда в саду и за садом кричат соловьи и дергачи, а с деревни доносится гармоника, в доме играют на рояле, шумит река — одним словом, такая музыка, что хочется и плакать, и громко петь».
После «Степи» с ее знаменитым описанием грозы, вошедшим в нашу память и, вероятно, во все хрестоматии по русской литературе на всех языках мира, после «Дуэли» и «Дамы с собачкой», где так метафорически-неумолчно шумит море, Чехов мог по праву повторить:
Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ…
Чехов писал о природе так, как пишут о живом существе, и если солнечные лучи у него потягиваются спросонья, если травы ропщут, облака переглядываются, ручьи воображают себя бурными потоками, а снег носится в воздухе, потому что ему стыдно падать на землю, то это не отдельные яркие мазки, не импрессионизм, а многогранная последовательность, пронизывающая все его творчество от ранних рассказов до «Невесты», единый и стройный эпический образ — образ русской земли. В нем нет ничего отвлеченно-метафорического, он действительно живет в контрастном сопоставлении с образом многоликого города, воплощая в себе ту норму, от которой, как сказано в одном из чеховских писем, уклоняется жизнь.
Чехов любил дорогу, любил глухие леса, грибные места, но никогда не охотился; ему было свойственно редкое понимание всего живого на земле — птиц, животных, деревьев, цветов: «Холодно чертовски, а ведь бедные птицы уже летят в Россию! Их гонит тоска по родине и любовь к отечеству; если бы поэты знали, сколько миллионов птиц делается жертвою тоски и любви к родным местам, сколько их мерзнет на пути, сколько мук претерпевают они в марте и в начале апреля, прибыв на родину, то давно бы воспели их… Войдите Вы в положение коростеля, который всю дорогу не летит, а идет пешком, или дикого гуся, отдающегося живьем в руки человека, чтобы только не замерзнуть… Тяжело жить на этом свете!»
Своеобразным было отношение Чехова к русской земле, «паче всех частей света исполненной пространства». В июле 1891 года, когда вдруг похолодало, он написал Суворину из Богимова: «Пахнет осенью. А я люблю российскую осень. Что-то необыкновенно грустное, приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда-пибудь вместе с журавлями».
О содержательности описаний природы Чехов говорил не однажды, особенно подробно в 1886–1888 годах, в письмах к старшему брату; говорил не об отдельных приемах, а о поэтике как о системе, в которой стиль пейзажей столь же важен, как объективность, простота или краткость. 10 мая 1886 года он изложил свою художественную программу так: избавляться от длиннот, «словоизвержений политико-социально-экономического свойства»; быть объективным и правдивым в описаниях; быть кратким. Заметное место в этом письме уделялось описаниям природы: «Общие места, вроде «Заходящее солпце, куиаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом» и проч. «Ласточки, летая над поверхностью пруда, весело чирикали» — такие общие места надо бросить». Писать нужно было так, чтобы читатель, закрыв глаза, ясно видел картину: «У тебя получится лунная ночь, если ты вапишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка» (Чехов возвращался к этой подробности дважды: в рассказе «Волк» и затем в полемических контекстах «Чайки»).
Нужно стараться, чтобы все «было понятно из действий героев… центром тяжести должны быть двое — он и она». Описания, таким образом, имели ценность лишь в меру своей уместности и не должны были «перевешивать». Спустя годы Чехов предостережет Горького от избыточного антропоморфизма, когда уподобления станут однотонными, «иногда слащавыми, иногда неясными», когда море дышит, небо глядит, степь нежится, природа шепчет, говорит, грустит и т. п. Чехов в эту позднюю пору находил уже стилевые излишества и у себя самого.
В ранних рассказах то и дело: «Ветер прогулялся по желтой листве старых берез, и с листьев посыпался на пас град крупных капель» («На кладбище»); «Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки» («Налим»); «Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждет чего-то» («Егерь»); «Тополь, высокий, покрытый инеем, показался в синеватой мгле, как великан, одетый в саван. Он поглядел на меня сурово и уныло, точно, подобно мне, понимал свое одиночество» («Шампанское»).