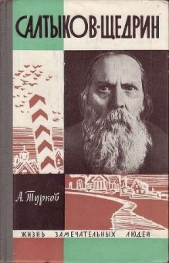Салтыков-Щедрин

Салтыков-Щедрин читать книгу онлайн
Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так, по видимости бытовой рассказ оказался связан с размышлениями Салтыкова о «призраках», овладевших современным обществом, с его раздумьями о социальных утопиях, о судьбах социалистических учений и формах их пропаганды.
Вовсе не отказываясь от высокого идеала социального обновления, больше того, как раз и рассматривая с точки зрения этого идеала (безусловно, истинного и с этой точки, в этом смысле — вечного) современную действительность, Салтыков считает ее глубоко ненормальной, находящейся под властью «призраков», которые «правят миром». Это действительность, хотя и реально, вполне осязаемо существующая, но тем не менее кажущаяся, призрачная, фантастическая.
Цикл «Как кому угодно» тем и знаменателен, что Салтыков подходит в нем к осознанию и, так сказать, художественному оформлению предмета своей сатиры: это именно призрачная действительность, тем более призрачная, чем более высок идеал художника. Этот же идеал наполняется у Салтыкова чем дальше, тем больше народным содержанием.
Наступило лето. И Салтыков опять в деревне, в Витеневе. На летние месяцы, до сентября, публикация «Нашей общественной жизни» прекращается. Он по-прежнему, как и в прошлом году, занимается хозяйством, смотрит за тем, как нанятые работники пашут, сеют, косят. Деревенскими наблюдениями и впечатлениями наполнена его появляющаяся в августе в «Современнике» статья «В деревне. Летний фельетон». Лето в деревне для городского жителя отрадно хотя бы потому, что можно забыть город с его бестолочью и сутолокой.
Но это для городского жителя, а что же житель сельский? Что вообще происходит в современной, пореформенной деревне? Как и чем живет она? А знает она прежде всего тяжкий, непрестанный и невзрачный «личный» труд.
С сентября, вернувшись в Петербург, вновь оказавшись в своем кабинете, окруженный газетами и журналами, Салтыков с головой уходит в ту городскую атмосферу общественной и литературной борьбы, которая вызывала у него в подмосковной деревне «словобоязнь».
Сентябрьскую хронику Салтыков начинает с предупреждения читателю: «прошу не сетовать на меня, если я буду говорить уже не тем спокойным и беспечным тоном, каким говорил до сих пор». Нельзя сказать, чтобы Салтыков и в предшествующих хрониках был спокоен и беспечен, но с сентября 1863 года его характеристики русской общественной жизни и в самом деле становятся все более мрачными и, пожалуй, еще более резкими. И объясняется это прежде всего той тягостной атмосферой, которая воцарилась в русском обществе под воздействием восстания в Польше, или, как тогда писали, «польской смуты». «Сама по себе взятая, эта смута, конечно, не страшна для России, но вред ее, и вред весьма положительный, заключается именно в том, что она вновь вызвала наружу те темные силы, на которые мы уже смотрели как на невозвратное прошлое, что она на время сообщила народной деятельности фальшивое и бесплодное направление, что она почти всю русскую литературу заставила вертеться в каком-то чаду, в котором вдруг потонуло все выработанное ценою многих жертв, завоеванное русскою мыслью и русским словом в течение последних лет...» — таков мрачный диагноз Салтыкова.
И Салтыков вновь обеспокоен судьбой «мальчишек», молодого поколения, обвиняемого в антисоциальных — революционных — тенденциях и намерениях. И от кого слышат «мальчишки» эти обвинения и упреки? От тех, кто сам совсем недавно, когда готовилась крестьянская реформа, был чуть ли не революционером в глазах «старых каплунов» и закоренелых глуповцев. Как происходит этот тяжелый процесс перерождения убеждений и перемены лагерей? «Ведь и они <«журнальные борзописцы» во главе с Катковым> когда-то были людьми, и они во что-то веровали, ходили, не шатаясь по воле ветров. Какая таинственная сила заставила их переродиться до того, чтоб утратить даже возможность постигать смысл проходящих перед ними явлений? Какое мрачное колдовство до того засыпало мусором их память, что собственное прошлое является перед ними точно чужое?» О вы, «прекрасные молодые люди сороковых годов»! Что с вами стало! Таких ли наследников ждали и провидели Белинский и Грановский! И не «мальчишки» ли их истинные наследники?
И другой вопрос неотступно преследовал Салтыкова — как соединить реальную практическую деятельность «мальчишек», силы неустанно-наступательной, творчески-деятельной, с той силой, которая поражает «абсентеизмом», но если творит, то творит плодотворно и надолго, — с народом.
Салтыков ставит вопрос о героизме мысли и героизме деяния.
Величественное здание на берегу Невы — Академия художеств — привлекало в сентябре 1863 года массу посетителей. Там была открыта годичная академическая выставка, где, среди множества полотен на мифологические и исторические сюжеты, сразу же выделилась картина Николая Николаевича Ге «Тайная вечеря». Сюжет ее также мифологический, евангельский, разрабатывавшийся многими великими мастерами средневековья и Возрождения и среди них — Джотто, Леонардо да Винчи, Веронезе, — последняя беседа Иисуса Христа во время праздничной пасхальной трапезы с учениками-апостолами — накануне «страстной пятницы», восхождения на Голгофу и мучительной смерти на кресте. Художник избрал самый драматический момент вечери — разрыв с учителем одного из его учеников — Иуды, когда тот уже решился предать учителя и покидает освещенную горницу, где собрались апостолы, чтобы уйти в темноту ночи. Противопоставляются две личности, два миросозерцания, два мира — Христос и Иуда.
Среди посетителей академической выставки был и Салтыков. Картина Ге поразила его необычностью трактовки художником классического сюжета и вызвала потребность высказаться о ней как незаурядном общественном явлении. И Салтыков открывает ноябрьскую хронику «Нашей общественной жизни» истолкованием именно такого смысла и современного значения картины Ге.
«Мне нравится общее впечатление, производимое картиной; мне нравится отношение художника к своему предмету; мне нравится, что художник без всяких преувеличений разъясняет мне, зрителю, смысл такого громадного явления...» Художник не только «представил в живом образе величайшее событие» и «сделал меня участником изображаемого мира», но и не оставил меня, рядового члена зрительской толпы, «без поучения и вразумления». Это-то последнее представляется Салтыкову особенно важным, ибо «для толпы некоторое вразумление и поучение еще очень и очень не лишне». Что же это за поучение?
Толпа, масса погружена в свои узкие меркантильные заботы, понятные и даже привлекательные своей осязаемостью и непосредственностью. Например, она без всяких вразумлений понимает, что хорошие пути сообщения лучше дурных, а легкий налог предпочтительнее тяжелого. Цели, преследуемые толпой, не стремятся далеко. Толпа наделена здравым смыслом, который услужливо подсказывает ей, что всяческие «стремления», «мечтания», «предвидения» не больше как «призраки», без нужды беспокоящие ее в ее самоудовлетворенном бытии. Однако, если это здравый смысл, то ведь это тот самый «проклятый здравый смысл, который дает нам разгадку искалеченного существования каплуна», курлыкающего над «хламом» настоящего. Между тем общество живет отнюдь не только сиюминутными материальными, непосредственными интересами и целями, и как только область общественных интересов расширяется, когда открываются просветы в будущее, толпа «почти всегда находится в недоумении, если не в глубоком невежестве». И потому вопрос не в том, «чего толпа чуждается (считает пустяками) и что она принимает, а в том, имеет ли она право чуждаться, может ли она навсегда остаться при своей непосредственности, может ли обойтись без того, что в ее понятиях является не более как призраком». На этот вопрос Салтыков отвечает: пет, не имеет права, ибо все те будничные явления жизни толпы, которые кажутся прочными и устойчивыми, на самом деле «носят на себе все признаки колебания и случайности и в действительности, отнюдь не меньше самого отъявленного «мечтания», исключительно стоят на почве спекулятивной», призрачной (какие призраки владычествуют над толпой, Салтыков объяснял в статье «Современные призраки»). «Этот закон колебания сам по себе до такой степени силен, что подчиняет себе явления самые простые и, по-видимому, неизменяемые, невольным образом выдвигает толпу из состояния непосредственности и самодовольства, заставляет ее объяснить себе причины колебания и таким образом прямо вводит в сферу других жизненных вопросов, более обширных и глубоких. Но если этот процесс неизбежен, если он составляет необходимую принадлежность истории человеческого развития, то не лучше ли, если массы приступят к нему добровольно, а не вынужденно?» Именно поэтому и требуются вразумления и поучения. Необходимо, чтобы масса, в ее же интересах, сама осознала, что является действительным призраком, идолом, который следует свергнуть с пьедестала, и что — «предвидением», позволяющим выйти из колебаний, преодолеть случайность.