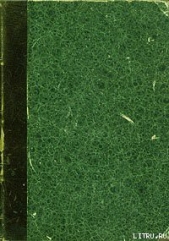Повести моей жизни. Том 1

Повести моей жизни. Том 1 читать книгу онлайн
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А я вас представлял совсем в другом виде!
Я улыбнулся, сразу догадавшись.
— Верно, считали меня много старше?
— Да! — ответил он откровенно. — Но это ничего не значит! Быть молодым лучше. Больше свежих сил, еще не помятых жизнью!
Это было мне страшно приятно слышать. Я ведь привык считать свою молодость самым слабым своим местом.
— И неужели вы уже столько ходили в народе? — продолжал он. — Когда у нас затевался рабочий журнал, главное затруднение было в том, что никто из нас не жил в народе и не умел выражаться его языком. Из Петербурга обещали прислать нам вас. Говорили, что вы исходили половину России и притом во всевозможных видах.
— Какая же половина России? Все это легенды. Был только в пяти губерниях, да и то не подолгу. Но по-народному выражаться все же умею.
— Вот этого-то нам и недоставало до сих пор! — убежденным тоном заметил он.
Затем, усадив меня на один из табуретов, он начал расспрашивать меня о России, о новых кружках и настроениях, о некоторых своих знакомых и о моих приключениях в народе. Я вкратце сообщил ему, как и вчера Ткачеву, все, что со мною было и что я знал об остальных, ходивших в народе и теперь почти поголовно арестованных товарищах.
— Да, — сказал он, — честь и слава их почину. Теперь движение в народ и внутри самого народа уже не остановится. На смену погибшим пойдут другие со свежими силами. Много отсюда молодежи уехало перед самым вашим приездом. Если бы вы задержались немного в Москве, вы встретили бы там десятка два замечательно хороших бернских студенток, отправившихся в Россию для того, чтобы заменить арестованных в этом году.
Это для меня было совершенно ново.
«Значит, — подумал я, — готовится новый штурм в этом самом направлении!»
— Они тоже хотят идти в деревню, как крестьянки? — спросил я, думая, как будет трудно для наших чистеньких студенток приспособиться к условиям крестьянской жизни, и инстинктивно почесывая у себя в голове, где еще кусали меня остатки белого населения, приобретенного мною в деревнях.
— Да! Именно!
— В деревнях им будет очень трудно, — заметил я ему, — и едва ли они там долго останутся. Жить там можно только нам, мужчинам, а им я посоветовал бы лучше заняться с рабочими, поступать на фабрики и заводы, живя на собственных квартирах. Но и это я считаю лишь подготовкой для предстоящей нам теперь огромной борьбы с тем строем, который, пока он существует, будет ставить все препятствия к движению интеллигенции в народ или к ее слиянию с народом: это монархизм.
— Наш простой народ по природе анархичен, — возразил мне он. — Ему надо все или ничего, он не понимает никаких компромиссов. Он не понимает частного землевладения. Для народа земля есть божий дар и потому принадлежит лишь тому, кто ее обрабатывает своими собственными руками, и только до тех пор, пока он обрабатывает ее. Кто перестал, должен отдать ее другому, желающему на ней работать. Поэтому, если мы хотим, чтобы крестьянин нас слушал, нужно говорить ему больше о земле. А рабочим надо прежде всего говорить о том, что фабрики и заводы должны принадлежать тем, кто на них работает собственными руками.
«Итак, — пришло мне в голову, слушая его, — люди у нас везде одинаковы! И в Москве, и в Петербурге, и за границей! Все то, что говорили мне Кравчинский и Алексеева, говорится и здесь».
— В Женеве теперь, — продолжал он, — живут из русских эмигрантов главным образом федералисты, придерживающиеся анархических воззрений. Лавристы переехали с Лавровым в Лондон, а бакунисты живут главным образом в Цюрихе, хотя сам Бакунин поселился в Локарно, на границе Италии, в имении, предоставленном ему одним молодым итальянским графом Кафьеро, горячим его сторонником. Оттуда они, кажется, затевают поднять в Италии восстание.
— Да ведь Бакунин тоже анархист-федералист?
— Да, но наши женевские с ним в личной ссоре. Говорят, что он вел себя с ними не по-товарищески, скрывая от них свое знакомство с Кафьеро.
— Но как же можно из-за личных отношений раскалываться на две партии? — с изумлением воскликнул я. — Ведь от этого вред всему делу.
Он взглянул на меня исподлобья своими выпуклыми близорукими глазами и сказал:
— Правдивое, искреннее дело может создаваться прочно только правдивыми, искренними людьми. Скрывать от товарищей что-либо — значит оскорблять их.
— С первым вашим положением я согласен, — ответил я, — но со вторым нет. Ведь всякий секрет есть тягость на душе хранящего его. Передать его другому не значит ли перенести тяжесть на другую душу, даже не облегчив своей? Поэтому, если мне доверен чей-нибудь секрет, я должен сам и хранить его! Если же я не сохранил его, а потихоньку передал другому, то и тот, в свою очередь, получил от меня право потихоньку передать его третьему. Третий передает четвертому, и в конце концов секрет дойдет и до самого того, от кого его предполагалось хранить. И кого же тогда обвинить за провал дела?
— Конечно, последнего! — сказал Гольденберг, подумав.
— А я в этом случае всегда виню первого. Это он разболтал. Остальные менее виноваты, потому что они разболтали уже разболтанное.
Я вынул свою записную книжку и показал ему зашифрованные там адреса.
— Вот тут адреса, которые я должен хранить. Никто не знает их шифра, кроме меня. Разве это признак моего недоверия к друзьям?
— Но если ваш лучший друг, — возразил он, — потребует, чтоб вы сообщили ему этот шифр в доказательство вашего доверия к нему?
— Я сказал бы, что это не имеет никакого отношения к довериям, что я могу выказать ему доверие лучшими способами.
— А он бы потребовал именно этого способа! Если б он сказал, что иначе вы разобьете его душу?
— Тогда я сказал бы: мой друг болен, он — как ребенок. Надо и поступить с ним, как с ребенком: чтобы не разбивать ему души, скажу ему шифр, но зато, вернувшись домой, перешифрую все новым.
— Вот-вот! — воскликнул радостно Гольденберг. — Именно так и поступал Бакунин и в результате растерял всех своих друзей! Это же будет и с вами! Я вам заранее предсказываю: вы здесь сразу приобретете массу друзей, а потом через полгода, при таких ваших правилах, всех растеряете!
— Значит, здесь у всех разбитые души? — спросил я.
— А чего же вы хотите другого? Здесь собрались люди, бежавшие из России, а бежали они, конечно, не потому, что осуществились их лучшие надежды, не потому, что они достигли всего, к чему стремились. Бегут лишь отчаявшиеся в возможности своей личной победы, и, чем больше они верили в нее, тем сильнее были разбиты их сердца, перед тем как они с отчаянием решились покинуть родину. Вы в другом положении. Вас сюда прислали товарищи, и, насколько я могу судить по первому впечатлению, вы не долго здесь останетесь. Но, насколько возможно, вы должны встречать здесь всех с открытым забралом, не тая от друзей никаких своих замыслов.
— Я так и буду! — ответил я. — Я вообще не люблю, чтоб меня считали не таким, как я есть. Пусть лучше считают хуже, чтоб не пришлось потом разочароваться.
Гольденберг мне очень понравился своею искренностью. Он внимательно и не перебивая выслушивал все мои доводы и отвечал на них обдуманно, а не как попало, подобно профессиональным спорщикам. С ним у меня сам собой развязывался язык, и тут же захотелось признаться ему, что мне больше всего хотелось бы не идти снова в народ, а стать душою большого республиканского заговора.
Но я удержался от этой откровенности, чувствуя, что не встречу в нем сочувствия при его анархическом настроении и идеализации крестьян.
«Мне надо, — думал я, — стараться смягчать здесь всякие противоречия и мелкие разногласия между заграничными революционными деятелями, никогда не путаться в их полемику, отмечать им не пункты их разногласия со мною и между собою, а наоборот, пункты согласия — одним словом, скреплять связь всех для общего дела, а не расшатывать ее...
Я уже видел из слов Гольденберга и впечатлений у Шебунов и Ткачева, что именно это здесь было особенно нужно.