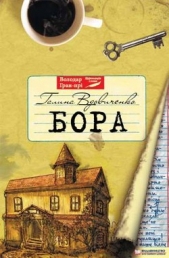Нильс Бор

Нильс Бор читать книгу онлайн
Эта книга — краткий очерк жизни и творчества Нильса Бора — великого датского физика-мыслителя, создателя квантовой теории атома и одного из основоположников механики микромира. Современная научная мысль обязана ему глубокими руководящими идеями и новым стилем научного мышления. Он явился вдохновителем и главой интернациональной школы физиков-теоретиков. Замечательной была общественная деятельность ученого-гуманиста — первого поборника международного контроля над использованием ядерной энергии, борца против политики «атомного шантажа»
Книга основана на опубликованных ранее материалах, обнаруженных автором в Архиве Н. Бора и в Архиве источников и истории квантовой физики в Копенгагене.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…А Паули в своем негодовании против гейтлеровской теории молекулярной связи вошел в такой раж, что угрожающе двинулся с мелком в руке на молодого геттингенца. И когда тот невольно откинулся назад, под ним затрещал стул, и бедняга с грохотом полетел на пол. В то же мгновенье Гамов с подозрительной невозмутимостью констатировал: «Эффект Паули!» Зная повадки Гамова, все решили, что непрочность стула он обеспечил заранее. Возможно, возможно.
К слову сказать, сверхобычным было, пожалуй, лишь то, что никаких возражений не вызвала теория, доложенная самим Георгием Гамовым. Она развивала его квантовое объяснение альфа-распада радиоактивных ядер. Выдвинутое годом раньше, это объяснение уже сделало имя Гамова широкоизвестным. Его идеи с одобрением встретил Резерфорд и с восхищением Бор. Оттого он после Кембриджа и Геттингена появился в Копенгагене. (Это было его первое турне по европейским центрам теоретической физики. И едва ли кто-нибудь мог тогда предугадать, что через пять лет он покинет «лоно жизнедеятельной группы молодых советских физиков» и, предав свой дом, дружбы и привязанности, эмигрирует во Францию. «Самоликвидируется», как скажет о нем с насмешкой его ленинградский однокашник Лев Ландау. И станет ему не до новых идей, не до прежних фантазий. А через сорок лет будет тяжко умирать за океаном, взысканный славой и вполне благополучный, но в конце концов безысходно спившийся, по свидетельству одного его друга — коллеги, от запоздало нахлынувшей эмигрантской тоски.)
Двадцатичетырехлетнего Гамова увлекла загадка альфа-распада потому, что классическая механика такой распад запрещала. Физика уже надежно знала: атомные ядра окружает высокий энергетический барьер. Его называли потенциальным.
Заряженным частицам трудно вырваться наружу — надо обладать энергией, превышающей высоту барьера. А энергия вылетающих альфа-частиц была явно ниже. Происходило нечто классически необъяснимое. Однако ядерные частицы еще и волны. И Соотношение неопределенностей размывало точные границы ядра. Оно допускало как бы просачивание альфа-луча вовне. Гамов назвал это «туннельным эффектом»: частица-волна словно бы прорывала туннель в барьере и вылетала на свободу. Вероятность такого события была очень мала, но совершенно достаточна, чтобы среднее время жизни радиоактивных ядер не было беспредельным. Иногда оно оказывалось огромным — 6 с половиной миллиардов лет у ядер урана! — но все-таки конечным. А по классической механике любым атомным ядрам следовало жить вечно.
Теория Гамова открывала перед экспериментаторами долгожданный путь вторжения в ядра. Ведь энергетический барьер вырастал и перед альфа-частицами, приходящими извне. Так, для проникновения в ядро урана поверх барьера надо бы обладать энергией в 10 миллионов электрон-вольт или выше. При тогдашней лабораторной технике даже Резерфорд не смел мечтать о частицах-миллионерах. А теперь на выручку приходил обратный туннельный эффект — возможность просачивания заряженных частиц в ядро под барьером. Гамов сосчитал, что достаточно снабдить бомбардирующие протоны энергией порядка 100 тысяч электрон-вольт. И в резерфордовском Кавендише молодой Джон Коккрофт уже приступил с благословения Папы к созданию первого в мире ускорителя…
Так в работе Гамова квантовая механика впервые распространила свои права и на загадочную сердцевину атома. Это и удостоверила Копенгагенская конференция в апреле 29-го года. «Работа Гамова стала провозвестьем ядерной физики…» — написал Леон Розенфельд. И потому он напрасно назвал ту семейную встречу только «символом завершения героического периода».
Разъезжались нехотя. Бор сказал, что такие сборища станут традицией на Блегдамсвей. И снова каждого отводил в сторонку:
— Надеюсь, вам будет что рассказать нам в следующий раз… — и улыбался самой отеческой из своих улыбок.
…А на полянах Феллед-парка посвистывали первые стайки перелетных птиц.
…А в каменных ущельях Берлина полиция готовилась к расстрелу первомайской демонстрации 29-го года, зная по доносам, что 200 тысяч пролетариев и интеллигентов, ведомых немецкими коммунистами, собираются предупредить всю Германию и весь мир о надвигающейся чуме нацизма с его угарно-милитаристскими планами.
Глава вторая. СКВОЗЬ ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ
1930… 1931… 1932…
…8 апреля 30-го года Бетти Шульц сделала запись в Книге иностранных гостей института:
«Д-р ЛАНДАУ — из Ленинграда».
Доктору было двадцать два. Но этим никого нельзя было удивить на Блегдамсвсй. Равно как и отчаянной юношеской худобой, детски непорочной свежестью лица, воинственной категоричностью научного правдолюбия.
Бескомпромиссность исследовательской этики стала логикой поведения редкостно одаренного юноши. И это роднило его, пожалуй, всего более с Вольфгангом Паули. Он тоже мог показаться дурно воспитанным, хотя — видит бог! — его родители, папа-инженер и мама-врач, делали в своем бакинском доме все, чтобы сын их рос хорошим мальчиком. И Лев Ландау рос хорошим мальчиком. Но пылкая трезвость — это неверно, будто трезвости принудительно сопутствует холодность, — темпераментная требовательность его мышления устанавливала собственную шкалу ценностей. И по этой логически выверенной шкале такие добродетели, как смирение перед авторитетом или почтительность к возрасту, никакой ценой не обладали. К восемнадцати годам он уже осознал себя самостоятельным исследователем в самой современной области знания (шел 26-й год!). А к моменту появления в Копенгагене весной 30-го года был уже автором примерно десяти печатных работ. И полагал, что в сфере квантовой механики ему ведомо все существенное, сделанное другими. Да не просто ведомо, а пережито его мыслью — наново пересоздано его стремительным воображением.
…Он из тех, кто никогда не вчитывается в детали чужой работы. Он проглядывает ее, чтобы схватить суть намерений автора, а потом усаживается и воспроизводит полученные результаты своим собственным путем.
Так впоследствии говорил историку Дж. Хэйлброну Рудольф Пайерлс. И говорил не понаслышке: 8 апреля 30-го года, он, двадцатитрехлетний ассистент Паули, тоже приехал в Копенгаген из Цюриха, где в январе трудился вместе с Ландау над их первой совместной статьей.
По-иному, чем это делали другие, они пытались распространить власть квантово-механических представлений на электродинамику. И он воочию видел, как осваивал Ландау новости физики.
Хэйлброн: Ферми, насколько я понимаю, бывало, работал так же… Но в Ландау жил еще и дух мятежа…
Пайерлс: О да! …Когда он был юн, ему нравилось руководствоваться крайностями во всем, не только в физике.
Чуть опоздавший родиться, чтобы вовремя созреть к эпохе бури и натиска в квантовой революции, он все-таки сразу стал совершенно своим на Блегдамсвей.
Совсем коротко — проездом — он побывал тогда на эйнштейновском семинаре в Берлине. Зная антиборовскую позицию Эйнштейна, он страстно захотел внушить ему веру в полноту основ квантовой механики. Приготовился к атаке. Однако то ли не нашел подходящей минуты, то ли просто не решился. Второе верней. И это был едва ли не единственный случай, когда его агрессивность отступила перед чувством глубокого пиетета.
В других случаях она не отступала… Вскоре, в том же году, он очутился — тоже ненадолго — в Бристоле, где познакомился с недавним докладом Поля Дирака в Ливерпуле. Воспылав несогласием, он тотчас отправил из Бристоля телеграмму Бору (9 сентября 30-го года) с кратчайшей рецензией по-немецки: «Квач» — вздор и болтовня. Меж тем мало кого он ставил столь же высоко, как Дирака. Про Геттинген Ландау скаламбурил: «У Бор-на я!» К счастью, это было непереводимо на другие языки, и только Георгий Гамов мог расхохотаться всей непочтительности такого каламбура. Впрочем, вполне в копенгагенском духе Ландау не щадил и самого себя. Он говаривал, что сознает, отчего его называют коротко — Дау; это от французской транскрипции его фамилии: «Л'ан Дау», что значит просто «осел Дау». Так ведь и Бор без тени немецко-профессорского самопочтения говаривал о себе: «Я не боялся показаться глупым…» Та же непринужденность.