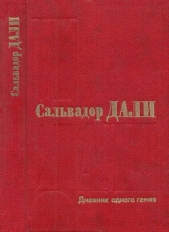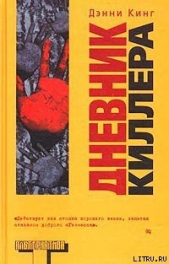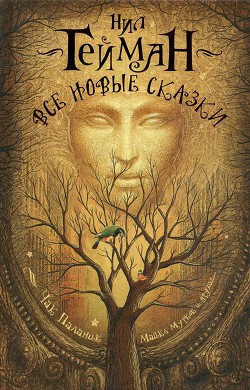Дневник (1901-1929)

Дневник (1901-1929) читать книгу онлайн
Трудно представить себе, что дневник пишут, думая, что его никто никогда не прочтет. Автор может рассчитывать, что кто-нибудь когда-нибудь разделит его горести и надежды, осудит несправедливость судьбы или оценит счастье удачи. Дневник для себя - это - в конечном счете - все-таки дневник для других
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вы делаете мне честь, вспоминая мои маленькие застольные шутки, но я говорю по совести: Тихонов деловой человек. Может быть, он еще не вышел на настоящую дорогу. Мы люди не коммерческие и, должно быть, не совсем чтили бы коммерческого человека...»
25 декабря. Канитель с Тихоновым длится. Я сейчас очень занят писаньем статьи о Некрасове, но чуть я отложу перо, я слышу: Тихонов, Тихонова, Тихонову... Вчера были мы с Замятиным на 6 этаже, где приютился Тихонов. Комнатенка ничего себе: кресла, портрет Ленина, но он чувствует себя как свергнутый с трона король. Говорит, что от Эфроса есть письмо: «Современ». на помощь приходит новый капиталист. Эфрос капиталиста хвалит и зовет Тихонова в Москву. Четвертая книжка «Современника» вышла, но у нас нет 20 рублей внести в цензуру — и получить экземпляры. Я ходил к Боровкову хлопотать о Гессене (корректоре, который выброшен на улицу лишь за то, что он брат Гессена из «Петрограда») и о кассире Дмитрии Назаровиче. Боровков попросил меня устроить детское утро 1-го января. Мы с Замятиным и Людмилой Николаевной посетили Белицкого. Белицкий сказал, что дело Тихонова безнадежное. «Я советовал ему уйти. Его ненавидят все. В Москве и здесь... Даже переводчики... Переводчики в один голос твердят, что «Всем. Лит.» обращалась с ними гнусно. На Тих. смотрят как на человека, который кормится возле литературы, возле литераторов...»
Третьего дня шел я с Муркой к Коле — часов в 11 утра и был поражен: сколько елок! На каждом углу самых безлюдных улиц стоит воз, доверху набитый всевозможными елками — и возле воза унылый мужик, безнадежно взирающий на редких прохожих. Я разговорился с одним. Говорит: «Хоть бы на соль заработать, уж о керосине не мечтаем! Ни у кого ни гроша; масла не видали с того Рождества...» Единственная добывающая промышленность — елки. Засыпали елками весь Ленинград, сбили цену до 15 коп. И я заметил, что покупаются елки главным образом маленькие, пролетарские— чтобы поставить на стол. Но «Красная Газета» печатает: в этом году заметно, что рождественские предрассудки — почти прекратились. На базарах почти не видно елок — мало становится бессознательных людей.
Мура все еще свято верит, что елку ей приносит дед Мороз. Старается вести себя очень хорошо. Когда я ей сказал: давай купим елку у мужика, она ответила: зачем? Ведь нам бесплатно принесет дед Мороз. <...>
30 декабря 1924. Пишу об Эйхенбауме — и нет конца. <...> Вчера было очень тягостное заседание «Всемирной Литературы». Длилось оно три часа — сочинили грубое письмо к Ионову, после к-рого Ионов всех нас погонит к чертям.
Самое печальное во всем разгроме «Всемирной Литер.» это то, что выгнаны на улицу конторские служащие. Я вчера хлопотал о Натанзоне (нашем бухгалтере) и других счетоводах,— но ответ неутешительный: видно, их решено изничтожить. Хуже всего положение у Софии Владимировны: она лежит в жару, за ней ухаживает ее больная дочь, Муся,— и все время боится, как бы ее мать не узнала, что она сокращена: старуху сократили, а она даже понятия не имеет, что на Моховой уже нет того учреждения, где она считает себя служащей!
Чуть только кончилось наше тревожное заседание (мил был один Сологуб, потешался над моей пуговицей; когда я просил его пододвинуть бублики — пододвигал не только ближайшую тарелку, но и ту, которая подальше; когда я сказал, что я болен, сказал: «он всегда болен» и пр.) — Замятин сообщил мне и Тихонову, что получена повестка — опротестован наш вексель, по которому мы должны платить типографии.
Тихонов дополнительно сообщил, что типография в обеспечение долга заарестовала нашу 4-ую книжку, которую мы готовили с такими усилиями. У меня окончательно разболелась голова. Я ушел — с болью.
1925
4 января. Вчера читал Уичерли — не до конца. Был у Клячко, он опять утверждает, что мой Бармалей никуда не годится. Вечером, в 6 час., ко мне пришли Шервинский и Леонид Гроссман. Они оба приехали прочитать «Воспоминания» о Брюсове — в капелле. Мы стали оживленно разговаривать (за столом), вдруг бах! — пушка, еще и еще!! Наводнение!! Мы с М. Б. вышли на улицу. Пошли к Фонтанке. Слякоть, лужи, народ пялит глаза на черную воду, у краев покрытую легкою корочкой,— и все это очень непохоже на «Все на борьбу с наводнением!». Вода поднялась почти до уровня моста — вот-вот поднимется и разольется по улицам. Я пошел в Союз Писателей: Ганзен, старуха Саксаганская, старуха Грекова, дочь Грековой, Бианки, Полонская, Борисоглебский и проч. Я читал без увлечения — «Мойдодыра», «Бармалея» и «Мухину свадьбу», успеха не имел — и мы пошли назад. Трамваи мчались в парк, людские голоса звучали возбужденно и весело (!), пушки бахали, холодно, мокро, дождь, ветер — насквозь. Сейчас сижу за столом, пыжусь писать о Некрасове — ничего не знаю, было ли наводнение или нет. Ветер как будто стих, на крышах снег. <...>
10 янв. Удушье... Бедный Федин очень сконфужен... краснеет и мнется. Дело в том, что он секретарь «Звезды», а в «Звезде» Горбачев приготовил жестокую филиппику по адресу «Совр.», где сотрудничает Федин. Он говорит: уйду, попрошу Ионова перевести меня в другой, здесь я не могу. Майский (ред. «Звезды») бывший меньшевик, и, как всякий бывший меньшевик, страшно хлопочет перебольшевичить большевиков. Говорят, что статья Горбачева весьма доносительная1.
Удушье!.. Теперь дела так сложились, что я бегаю по учреждениям с часу до 5, и всюду — тоска... тоска... Оказывается, что в Москве на Ионова нажим, что Ионов очень непрочен. Против него Сталин, за него Зиновьев. Чтобы умилостивить Сталина, он заказал напечатать две серии его портретов. Это было первое, что издал Ионов в Москве. Так говорит Тихонов.
Сегодня Тихонова перевели еще в меньшую комнату — самую маленькую и паршивую, какая только есть в Госиздате. «Деградация!» — говорит он. В «Совр.» никаких денег нету — но говорят, что скоро приедет Магарам.
Мамочка третьего дня подарила мне свое кольцо — обручальное, которое носила 45 лет. «Какие у тебя красивые руки!» — сказала она и надела мне колечко. Я был с нею в среду у глазного доктора — и он клятвенно заверил меня, что левый глаз у нее в полном порядке, что ему (глазу) ничто не угрожает. Сегодня я, Замятин и Волынский должны пойти снова к Ионову (который приезжает сегодня утром). Посмотрим. М. Б. и Лида ездили вчера в Александринку на первое представление «Блудного беса»2. Кто-то на галерке свистал.
11 января. Был с утра в Госиздате. Приехал Белицкий. Очень хорошо ко мне отнесся. Устроил мне аванс под Некрасова. Я к Ионову.— «Когда может посетить вас депутация от коллегии «Всемирной Литер».— «Какой коллегии?!» — вскричал он возбужденно, и я увидел, что для него самое слово коллегия — рана.— «Коллегия!? Да ведь коллегия распущена! Она поставила мне ультиматум, я этого ультиматума не принял, и Ольденбург мне по телефону ответил, что вы не желаете работать со мной!» — «Но вы после этого послали нам любезное письмо...» — «Вы что же? Ваш Тихонов хочет меня поссорить с Горьким, я от Горького получил телеграмму, вы на своих заседаниях говорите, что не желаете идти в ионовскую банду — я все знаю, один из ваших же членов сообщает мне каждое ваше слово, да, да (тут он сделал жест, как будто вынимает ящик стола и хочет показать какие-то документы), ну, впрочем, не буду делать литературного скандала (тут он выслал из комнаты Гоникберга и подбежал ко мне вплотную, глаза в глаза — а глаза у него разные, с сумасшедшинкой), знайте, Чуковский, что я и без вашей Коллегии поставлю Иностранный отдел, да, да, вы увидите»,— словом, внес в это дело столько страсти, что я невольно любовался им. Он и не знает, что наша Коллегия вся состоит либо из болтунов, либо из занятых людей, которые не станут работать, либо из плохих литераторов, которые не умеют работать,— и что нечего так волноваться из-за этого малоценного приза. «Коллегию я не приму!» — выкрикнул он наконец. «А примете вы трех литераторов: Чуковского, Волынского, Замятина?» Он задумался. «Завтра, в два! Я завтра уезжаю».