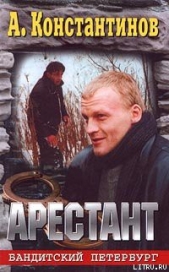Я твой бессменный арестант

Я твой бессменный арестант читать книгу онлайн
Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Зачем звали? — не преминул полюбопытствовать вездесущий Горбатый. Пришлось все объяснять ехидно улыбающемуся человечку. Навалилось уныние.
Как оправдаться перед братом и сестрой? Тупица несчастный! Схватил бы письмо и драпанул подальше: в туалет, под лестницу или в спальню под койки. Прочел бы, адрес запомнил, а там пусть забирают. Письмо то к маме вернется. Изболится сердцем, изойдет ревом. От этих мыслей проняло окончательно, и я расхлюпался разнесчастно. Ко мне склонился Царь:
— Не тужи, все образуется. Получишь еще письмо … Мне бы только шепнули, что мама жива.
Я долго попрекал себя, горевал, настраиваясь на решительную встречу с почтальоншей в следующий раз.
День истлевал, оставляя на душе тяжесть новой утраты. За окном рыдали небеса. Дождина разошелся не на шутку. Бурлящий поток с плеском срывался с угла крыши в переполненную пожарную бочку. Косые струи, мерцая тусклыми бликами, омывали черные зеркала стекол, а в них отражались и желтая лампочка, и двери, и рассыпавшаяся в беспорядке ребятня. Сквозь раскатистое урчание воды что-то высвистывала печная труба. Подрагивали и дребезжали окна, гремела кровля. От непогоды и голода сосало под ложечкой.
Педя тихо засвистел мотив, потом затянул вполголоса. Ему искренне, жалобно вторили, и скоро вся группа протяжно выла. Песня смягчила боль, развеяла сожаление. Неясная печаль охватила нас. Только в песне можно было пожаловаться на несправедливую участь. Песня, как исповедь, вобрала в себя и горькие слезы, и неотвязную тревогу. Затихло острое подсасывание в пустом желудке. Обманчивый покой охватил нас. Как изголодавшиеся волчата затравленных родителей, устав от грызни и драк, мы скулили вразнобой под нестихающий шелест дождя.
Чем утешиться в нашем никому неведомом застенке, если бы не этот неиссякаемый песенный родник? С песнями все становилось ясно, давно и многими выстрадано:
5
Детский утренник
Толик задирал мутные глаза к потолку и, зевая и путаясь, битый час упрямо долдонил торжественный стишок про флаги и ликующий народ. Его мозг не поддавался и упорно отторгал рифмованные строки. Я старался отключиться, не слушать занудное бормотание. Вначале это не удавалось, но постепенно голос Толика стал пропадать, и вдогонку подумалось: разве стихи учат?
Стихи сами вплывают в память как стройные парусники в сиротливую бухту.
Темный вечер волочился по стылой сибирской земле. За обледенелым оконцем надрывалась пурга, а в нашей землянке царили покой и тепло. Запоры замкнуты накрепко, закоптелая трехлинейная лампа в меру чадила.
Мама заботливо укутала нас с братом ватным одеялом. От плиты тянуло устойчивым жаром, а из-под двери, не смешиваясь, ползла слабая струйка холода. Жар легко оттеснял ее, но я отчетливо ощущал легкое студеное дуновение. Оно не сдавалось и не сдастся, а будет набирать силу и ночью переборет теряющее мощь тепло. И остывшая плита из дарующего жизнь очага превратится в ледяной могильный камень, как будто огонь никогда не лизал его.
Мамина тень то скользила по стенам и потолку, то неподвижно застывала на несколько секунд. Чужой, неласковый мир отступал далеко, далеко, может быть его и вовсе не было. Забылись непрестанный гуд и муравьиная скученность полуголодных детей в интернате, бесконечные поездки туда и обратно через весь город среди озабоченных, утомленных лиц.
Спать совсем не хотелось, и сестренка не выдержала:
— Мам, вкусненького хочется.
— Сейчас, сейчас, — мама присела на топчан у столика.
Мы с нетерпением смотрели, как она очищает крупные дольки чеснока, отрезает толстые ломти черного хлеба. Клейкий влажный мякиш налипал на лезвие ножа. Мама посыпала крупной серой солью корочки и сильно, до блеска натирала их чесноком. Чесночный дух лез в ноздри, слюна наполняла рты.
— Какой вкусный нюх распустила! — сказал брат.
Мы следили с предвкушением счастья за ловкими руками мамы, по очереди принимали готовые куски с лоснящимися корочками и смачно жевали, полизывая липкие пальцы.
— Сегодня вспомним рыжего Мотэле, — подумав, сказала мама. — Конечно, вы маленькие и мало что поймете, но дадим Пушкину отдохнуть.
— Все поймем, — не соглашался я, распластавшись поудобнее на топчане.
Мама укрутила фитилек, фукнула на огонь и легла под одеяло к сестренке. Переливы чудесных строк, как волшебная музыка, полились в вяжущей тьме землянки. И мне представлялся таинственный домик, совсем как наша землянка, под «слабенькой крышей», где «свое счастье, свои мыши, своя судьба. И редко, очень редко, две мыши на одну щель».
Когда мама останавливалась, припоминая новую строку, последний слог долго не затихал в сознании, как звук далекой, растревоженной струны. Сестра и брат давно спали, а мама продолжала читать, иной раз упоенно повторяя отдельные строфы. Напевный ритм, дивная красочность рифмуемых звуков убаюкивали меня, бережно унося в мир снов и забвения. А голос мамы звучал и сквозь сон; она читала себе, для души.
Навсегда, как прелесть стародавних сказок, запала в память и светлая радость стихов, озарявшая тоскливые дни болезней, когда так не хотелось оставаться в одиночестве. Я не растерял ни чувств, ни подробностей, ни самих стихов, и временами они, как дорогие гости, навещали меня. Тогда я твердил их про себя немного нараспев, как мама.
Коротая нескончаемые вечера с сестрой и братом, я повторял им полюбившиеся строки, и время летело незаметно, и было не нужно без устали ловить краем уха далекие шорохи, скрип снега под окошком, поспешные шаги мамы, бряк щеколды.
Мне нравились длинные стихи. Я гордился и даже упивался тем, что могу шпарить и шпарить их без запинки. О смысле задумываться не приходилось: поет ручеек, очаровывает. Кто знает, о чем он поет?
— Слушай, пособи Толику, — голос воспитательницы оборвал мои мысли. — Затверди половину его стиха.
— Я другие знаю, лучше.
— Какие?
— Письмо Татьяны к Онегину и ответ Онегина.
— Что за письма такие? На фронт что ли и с фронта?
— Не, это про старое время.
— Идем к начальству, послушаем.
В зале готовились к празднику. Малыши возились с декорациями. С окон, потолка и с рамы картины свисали гроздья разноцветных воздушных шариков. Пару дней назад Никола и Горбатый стянули где-то картонную коробку с шарами. Мы вздували их всей группой с самого утра, но опростать коробку так и не смогли.
Раскрученные рулоны шершавых обоев, перекрещиваясь в беспорядке, стлались по полу. По ним с кистями в руках ползали стриженные наголо девочки, лихо мазюкая акварельными красками по серой бумаге. Доминировал красный цвет. От его переливов рябило в глазах. Намокшие тяжелые ленты обоев кровавым потоком ниспадали со стен.
Лупоглазая, застенчивая девушка лет шестнадцати малевала лозунг по куску красного сатина. Странная, полумесяцем вверх, улыбка растягивала ее полные губы. Девушку звали Маня-дурочка. Она подвизалась в ДПР в качестве главного мазилы.
Что-то в моей физиономии привлекло Маню. Сначала она издали поедала глазами мой нос, потом нерешительно приблизилась и, как бы задабривая, протянула раскрученный бумажный свиток. На нем изящные узоры строк низались вычурной вязью. Затейливые строчные буквы перемежались красными, в причудливых завитушках, вензелями прописных, а на концах слов иногда красовался знак ъ. По-видимому, это был искусно начертанный старославянский текст. Маня ждала отклика, улыбалась влажным ртом и неотрывно изучала мой нос. Я тупо скользнул взглядом по тексту, но прочесть не смог, стушевался и отступил. Маня со свитком подошла к воспитательнице и, удостоившись похвалы, забыла обо мне.