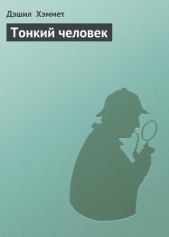Резерфорд

Резерфорд читать книгу онлайн
Книга Д.Данина посвящена величайшему физику-экспериментатору двадцатого столетия Эрнесту Резерфорду (1871–1937).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я ничего не желаю слушать! Ты ведешь себя бесчеловечно.
— Но, Мэри, число сцинцилляции сошлось с числом частиц, честное слово…
Он договаривал это уже в пустоту — она скрылась за дверью. Он вздохнул и, чувствуя себя каким-то жалким в одних носках, присел к столу — отдышаться, подумать…
«Эксперименты проводились ночью в темной комнате», — сообщали Резерфорд и Гейгер в уже знакомой нам июльской статье: целая глава в ней была посвящена счету сцинцилляции и сравнению результатов двух методов. И жалобой звучала фраза: «Трудно вести непрерывный счет в течение более чем двух минут, ибо устают глаза». Впрочем, то была жалоба одного Резерфорда. Эти «две минуты» встречаются еще в его письме профессору Бамстиду, написанном за неделю до того, как статья ушла в редакцию «Трудов Королевского общества».
Слова Резерфорда о Гейгере, который работал, как раб, прозвучали именно в этом письме и в очень выразительном контексте:
11 июля, Манчестер
Вот я и прошел через испытания моего первого года здесь и в итоге располнел, так по крайней мере говорит моя жена. В то же время я никогда в жизни не трудился так упорно — отправил четыре статьи для Phil, mag'a и две для Королевского общества… Гейгер отличный малый и работал, как раб. Я никогда бы не нашел времени для изнуряюще нудного труда, предшествовавшего той поре, когда дела у нас пошли на лад… Гейгер — демон счета сцинцилляции и мог считать их с передышками всю ночь напролет, не теряя самообладания. Я же проклинал все на свете и отступал через две минуты…
Нет, он не мог бы заставить себя в поисках клада лопатой перетаскивать гору. Теперь становится еще очевидней, чем прежде, что и у него, неуязвимого, была ахиллесова пята: он не обладал ни героизмом страстотерпцев, ни великим долготерпением отшельников. Нервная нетерпеливость все возрастала в нем с годами. В Монреале она стала заметней, чем в Кембридже, в Манчестере — заметней, чем в Монреале. Но это была странная нетерпеливость: она не сопровождалась поспешностью, а скорее приводила к удвоенной бдительности. Как и в Монреале, из стен его Манчестерской лаборатории не вышло ни одной работы с ненадежными данными и недостоверными выводами.
Он жил в нетерпеливой погоне за истиной, а не за мимолетным успехом.
А успех приходил сам собой, как из удивленных ущелий приходит долгое эхо горных обвалов. Он только вызывал обвалы.
Раньше, чем ему думалось, пришла его «очередь тратить деньги»: в середине ноября он получил телеграмму из Стокгольма — Королевская академия наук Швеции присудила профессору Резерфорду одну из нобелевских премий 1908 года. «За исследования по дезинтеграции элементов и химии радиоактивных веществ» — так было сказано в решении академии.
Нобелевские премии тогда были еще внове. Их присуждали всего лишь в восьмой раз. Изобретатель динамита и пацифист, ученый и миллионер Альфред Нобель умер в 1896 году, оставив свое знаменитое завещание, по которому проценты с его капитала должны были послужить фондом для ежегодных премий за выдающиеся научные достижения в области четырех наук — физики, химии, физиологии и медицины. Это завещание вступило в силу пятью годами позже — в первый год нового века. И первым физиком, удостоенным премии Нобеля в 1901 году, был Рентген. Мировое общественное мнение скоро признало нобелевские премии высшей наградой за научные достижения. Огромной была премиальная сумма, порой превышающая 50 тысяч долларов (ее точная величина зависела от процентонакопления за год). Строгим был отбор лауреатов (их научным успехам следовало, как правило, выдержать испытание временем). Никакие национально-религиозные ограничения не накладывались на кандидатов, и не отдавалось сколько-нибудь ощутимой дани побочным соображениям — даже патриотическим (за первые восемь лет ни один шведский физик этой награды не получил).
С течением времени пиетет перед нобелевскими премиями стал даже превращаться в идолопоклонство, которым научная среда, как правило, грешит меньше, чем любая другая.
…Когда в 1943 году американцы подыскивали кандидатуру на роль главы атомного «проекта-V» и всплыло имя Роберта Оппенгеймера, его назначение долго затягивалось из-за того, что он не был лауреатом Нобелевской премии. «Последний недостаток сильно уменьшал его влияние в глазах коллег…» (генерал Лесли Гроувз).
В начале века такого фетишизма не существовало.
И еще невозможны были в те годы казусы иного рода: нарушения статута Нобелевского фонда, запрещавшего капитализировать премиальные суммы ради извлечения из них прибыли. В 1904 году Рэлей отдал почти всю свою премию (5000 фунтов стерлингов) на создание нового крыла Кавендишевской лаборатории. А четверть века спустя физик Иоганнес Штарк — сподвижник Ленарда и одни из тех, кто объявил теорию относительности Эйнштейна «мировым еврейским блефом», — купил на Нобелевскую премию фарфоровую фабрику. Изгнанный за это из Вюрцбургского университета, он искал сочувствия у рвущихся к власти нацистов как жертва происков неарийцев. В начале века такие штуки были еще немыслимы ни в Германии, ни в других странах.
Нежданному-негаданному богатству лауреаты радовались тогда откровенно и простодушно. Как написал Резерфорд в Пунгареху: «Это очень приятно и с точки зрения оказанной чести и в смысле звонкой монеты». Еще бы! Гонорары выдающихся физиков были в те времена несравненно скромнее нынешних. Оклад Резерфорда в Манчестере считался чрезвычайно высоким, а составлял не более 1600 фунтов в год. Присужденная ему премия превышала эту сумму в четыре с лишним раза! И 6800 фунтов были для него сказочной суммой денег. Это сразу почувствовала Эйлин, которой в канун рождества 1908 года Санта-Клаус из Стокгольма притащил неслыханные подарки. (На Уилмслоу-роуд. 17 царило «величайшее возбуждение», по словам Резерфорда.)
Словом, все было радостно в этом лауреатстве. И только один пункт чрезвычайно его удивил: ему присудили премию по химии — не по физике! Правда, может показаться, что он должен был бы вдвойне торжествовать. Ив говорит, что именно в ту пору «он любил рассказывать не без веселого ликования, как ему удалось всерьез побить химиков на их собственном поле». Речь шла о тонких методах работы с крошечными объемами эманации: об освобождении ее от всяких примесей и получении ее развернутых спектров. И наконец — об экспериментальном разоблачении все тех же неоно-литиевых нелепостей Рамзая, на которых тот продолжал настаивать. Параллельно со счетом альфа-частиц Резерфорд упрямо занимался своими исследованиями радона в содружестве с молодым магистром наук Т. Ройдсом и стеклодувом-виртуозом Отто Баумбахом. Этим-то работам и были посвящены его статьи 1908 года для «Philosophical magazine». Тогда же он с удовольствием писал Хану, что сделался настоящим экспертом в области химии газов. И спектроскопии. А по поводу сходных, но совершенно не удовлетворявших его исследований Рамзая добавлял уже с полным пренебрежением: «Как говорят американцы, от его работ мне делается нудно…» Так разве не естественно было бы для него, Резерфорда, позлорадствовать: вот он побил «нормальных химиков» и на лауреатском поприще — теперь-то уж кончится их высокомерная оппозиция и скиснет их глупая гордыня!
Но по намекам в его переписке можно безошибочно умозаключить, что превращение в химика все же его огорчило. Его удивило и огорчило, что химическому аспекту превращения элементов было отдано явное предпочтение перед громадностью физического содержания этого открытия. Пожалуй, нечто сходное мог испытать четырнадцатью годами позднее Эйнштейн, когда Нобелевский комитет удостоил его премией за работы по фотоэффекту, а не за создание частной и общей теории относительности. (Ряду членов комитета эти ценности казались в 1922 году еще недостаточно прочными!)
Конечно, огорчение Резерфорда было мимолетным — тем более что случившееся позволяло скрасить доброкачественной шуткой пышность церемонии, ожидавшей его в Стокгольме.