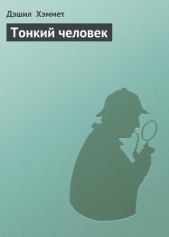Резерфорд

Резерфорд читать книгу онлайн
Книга Д.Данина посвящена величайшему физику-экспериментатору двадцатого столетия Эрнесту Резерфорду (1871–1937).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
24 февр. 1908, Манчестер
…Вы сделали очень хорошо, рассказав мне о работе Регенера… Общая идея была для меня не нова… Я все же удивлен, что метод счета сцинцилляции где-то дает правильные результаты…
«Где-то»! Это выдавало его недавние чувства.
Однако что — чувства! Он был не из тех людей, чьи воля и мысль надолго растворяются в переживаниях. Догматической власти чувства над ним не имели. Это его письмо еще не пересекло Ла-Манша, когда у Ганса Гейгера уже удвоились заботы: Проф пожелал немедленно убедиться, что сцинцилляционный метод даст правильные результаты и в Манчестере.
Это означало совпадение числа сцинцилляций с числом альфа-частиц, зарегистрированных методом электрическим. К прежним затруднениям, «которых сегодня нельзя даже понять», прибавились новые. Немедленный ответ был иллюзией. Для метода сцинцилляции следовало еще придумать свой манчестерский вариант: надо было вести в одинаковых условиях параллельные измерения обоими способами. Бронзовый цилиндр ионизационной камеры, где залетающие сквозь слюдяное окошечко альфа-частицы вызывали серии мгновенных разрядов, сделался теперь съемной деталью экспериментальной установки. На его место можно было ставить камеру с тонко усовершенствованным спинтарископом, где альфа-частицы из того же источника вызывали короткие блестки свечения.
Теперь уже и вправду дня не хватало. Да день был и не лучшим временем суток для такой работы: она требовала темноты. А главное: по контрасту с прежним недоверием к методу сцинцилляции Резерфорд незаметно стал его одержимым приверженцем. Все чаще случались дни, когда он и Гейгер уходили из лаборатории только на рассвете.
Здесь возникает искушение ввести в это документальное повествование сочиненный эпизод, не скрывая, что он сочиненный. Так легче сказать некоторые вещи, о которых очень хочется и нужно сказать.
Беллетрист мог бы в этом месте провести нашего новозеландца по ночному Манчестеру; затащить его, усталого и голодного, в какую-нибудь таверну, открытую до утра; усадить за дощатый стол, отполированный локтями поздних гуляк, неудачливых проституток, ночных полисменов, измученных мастеровых; позволить ему хоть часок поболтать в этом обществе о делах земных и надеждах человеческих; разрешить ему заступиться всей силой своего властного голоса и справедливой руки за бездомную парочку; и, поставив его лицом к лицу с блюстителем порядка, удивленным солидностью костюма, виртуозностью ругани и заморским акцентом незнакомца, заставить его, члена Королевского общества, нехотя раскрыть свое громкое имя и убедиться, что здесь оно никому не знакомо и ничего не значит.
Здесь решительно ничего не значили ни альфа-частицы, ни сцинцилляции, ни устройство атома. Здесь, в низинах обыкновенной жизни ничего не значили все его заботы и помыслы. И даже усталость его осталась бы здесь непонятной — добровольная усталость человека, занятого поисками чего-то, что не имеет никакого значения для жизни и смерти…
Беллетрист мог бы проследить, как нескончаемым проспектом он медленно шел на юг, в Уитингтонское предместье, в свой благополучный дом. Впереди рассветные сумерки. Слева дымно-красная заря за черными силуэтами крыш и труб. Молчанье. Безлюдье. Он шагал с ощущением вздорной ненужности своего профессорского бытия в окружающем мире застарелой бедности, несправедливости, порока. И его одолевало чувство неправедной избранности. И он не знал, что ему делать с бесплодной мыслью о глухом одиночестве высокой науки на перенаселенной земле… Может быть, как Румфорду в Мюнхене, заняться ему изобретением дешевого супа из крови и костей? «Резерфордов суп» — это звучало бы по крайней мере милосердно.
Быть может, заговорил в нем голос предков — шотландских пуритан из Перта? Но скорей всего, — должен был бы подумать он, — дело в усталости. Усталость обостряет чувство неблагоустроенности мира. При свете дня он не вовлек бы себя в этот старый спор о тщете истины и вечной ценности добра. Такой выбор всегда казался ему нелепым; истина была добром, совершенно и более чем достаточным, чтобы самими поисками ее оправдать и ученого и науку, сняв с них всякое обвинение в безучастности к человеческим страданиям.
Только с мыслью о глухом одиночестве науки он ничего поделать не мог. Это была очевидность — экспериментальный факт, такой же неопровержимый, как узкая заря на продымленной громаде неба.
Беллетрист мог бы проводить его домой и послушать, как тихим поворотом ключа откроет он дверь; снимет ботинки, чтобы не скрипели под его тяжестью половицы, словно с ботинками отслаивается и тяжесть; болотным шагом проберется к себе в кабинет, растянется на диване и глубоко нырнет в непробудный сон и вынырнет не раньше появления утренней Эйлин, или Эйлин и Мэри вместе. И все это вкупе будет означать, что уж он-то, профессор Резерфорд, в этом мире отнюдь не одинок. Но если Эйлин спросит: «Папа, а что вы там делаете ночью с дядей Гансом?» — как и что он ответит ей? Конечно, он сможет отделаться шуткой: «Мы с дядей Гансом считаем светлячков». Но ведь тотчас последует — «каких?». А потом самое скверное — «зачем?». Он-то даже в эту минуту не будет одинок — напротив! А его наука? Наука одинока, как господь бог в первый день творения, как Новая Зеландия в океане. И дело вовсе не в том, что Эйлин — ребенок и отделаться от нее можно еще и по-другому: «Вот вырастешь — я тебе все объясню!» Мэри — взрослая и образованная. От нее можно отшутиться сложнее: «Мы с доктором философии Гейгером стали завзятыми астрономами. Только вместо телескопа у нас микроскоп. Вместо ночного неба — темный экран из сернистого цинка. Вместо вечных звезд — эфемерные звездочки сцинцилляции…» Но все равно разговаривать придется подобиями. Даже на такую простейшую тему. И все равно однажды всплывет уличающее — «а зачем?».
Ему должно было бы вспомниться недавнее заседание Королевского общества в Лондоне. Они присудили медаль Коплея чикагскому физику Альберту Майкельсону, только что получившему Нобелевскую премию 1907 года. Лет двадцать пять назад американец доказал, что скорость света не зависит от скорости движения источника, а в 905-м году швейцарец Эйнштейн поразительно истолковал этот странный результат… В общем они сердечно приветствовали стареющего Майкельсона, который произнес против утилитаризма в подходе к науке прекрасную речь. Он рассказал, между прочим, как встретился однажды со старым приятелем и тот спросил его, чем он занят. Майкельсон заговорил о спектроскопии. С энтузиазмом объяснил, что спектры позволяют узнать химический состав даже недоступных звезд. И дабы окончательно сразить приятеля, объявил ему, что именно так на Солнце был обнаружен натрий. Помолчав, приятель сказал: «Ну, а кому это важно, что там есть натрий?» Члены Королевского общества наградили Майкельсона смехом и аплодисментами. А потом, конечно, пересказывали эту историю домашним и друзьям. Те тоже смеялись. Однако можно поручиться, что девять из десяти, если не девятьсот девяносто девять из тысячи, втайне вопрошали себя: «А в самом деле, кому это важно, что там есть натрий?»
Как отважиться сказать не семилетней девочке, а человечеству: «Вот вырастешь — я тебе все объясню!» Да и всегда ли есть надежда дать в конце концов желанное объяснение? Как растолковать венцу творенья, что только вместе с наукой растет его самосознанье, всегда от нее отставая, иногда на целые эпохи?
Он еще не подозревал, сколь многое придется физикам объяснять людям ядерного века, рождавшегося в те ночи и дни.
…А дальше всю эту сцену в ночном Манчестере беллетрист мог бы завершить так.
Когда он добрался, наконец, до своего дома, тишайше повернул ключ, притворил за собою дверь, снял ботинки и медленно направился в кабинет, он вдруг увидел: двери кабинета распахнуты, в глубине сидит одетая Мэри, свет настольной лампы падает на ее бледное лицо.
— Где ты был? Телефон в лаборатории уже три часа не отвечает…
— Но, Мэри, я зашел в таверну… Она перебила его.