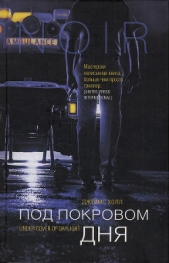Memoria
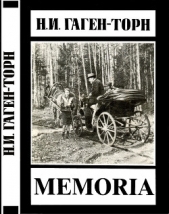
Memoria читать книгу онлайн
Нина Ивановна Гаген-Торн (1900–1986). Дочь профессора, выпускница Петербургского университета, поэт и прозаик, ученый-этнограф — и политзаключенная, лучшие годы жизни которой прожиты в сталинских тюрьмах, колымских и мордовских лагерях, на пересылках, этапах, в ссылке…
«В страшной жизни, где люди носили платье с номерами, не имели связи с нормальным бытием, встретить человека, как бы витающего над всем лагерным ужасом, — чудо. И этим чудом была встреча с Ниной Ивановной Гаген-Торн…» (К. С. Хлебникова-Смирнова, бывшая заключенная.)
«Она прожила долгую жизнь, прожила ее с честью, но, если бы была возможность писать и, главное, увидеть опубликованными плоды своих раздумий, — жила бы еще долго. Крепкий была человек…» (Галина Гаген-Торн, дочь).
«Ужасно жаль, что в наше время, запутавшееся в далеко не диалектических противоречиях, Ваших стихов нельзя опубликовать. Но не падайте духом: придет и для них время — иное, освобождающее…» (Илья Сельвинский).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Приезжавшие из Казачинска рассказывали: «В Казачинске многие плакали, когда читали о его смерти. Ссыльным говорили: „Радуетесь? Напрасно радуетесь, лучше вам не будет“. — „В Красноярске тоже плакали“». Ну-у?
Вы приготовляетесь, читатель, к отзвуку исторического события — смерти владыки? Каков он был в деревенской глуши? А никаков: отзвук всегда отстает от событий, как звук от реактивного самолета. Как при попадании снаряда в воду — чем дальше расходятся круги, тем больше они замедляются. На претворение в деревенском быту и в сознании революции потребовались годы. На осознание сталинской смерти — месяцы. Вначале жизнь двигалась по инерции, без перемен. Подходила весна, она была насущнее сталинской смерти, ощутимее: необходимо приготовиться к весенним работам.
Население Залива смешанное: 1 — старожилы, 2 — поволжские немцы, высланные в начале войны, 3 — люди нашего этапа.
Старики жили воспоминаниями доколхозного времени, когда вольготней жилось, да гаданием, как устроит жизнь молодежь, убежавшая в города. Немцы, пересаженные на чужую почву, заботились покрепче врасти корнями. Люди нашего этапа суетились, как грачи, которые, прилетев, начинают таскать прутья для гнезда.
И всем было не до Сталина.
А мне старик Сергеич сказал:
— Мне тебя в доме боле не надобно — дочь приезжает. Ищи себе фатеру.
— Ладно, через неделю уйду.
Дом
Но «фатеру» искать не стала: надоело по чужой половице ходить. Бродя по деревне, давно уж заметила крепкий дом-пятистенок с забитыми окнами. Пустой после раскулаченных хозяев стоял. Захватив с собой топор, взошла по шаткому крыльцу, без большого труда отогнула гвоздь, закрывавший дверь. Вошла. Одна половина здорово разрушена. Рассыпается и оседает в подполье большая глинобитная печь. Над ней в крыше дыра, снег и дождь падают на печь, в эту дыру. В забитых окнах нет рам. Ходуном ходит пол. Но цела дверь в другую, меньшую, половину. А там почти нет разрушений: печь и стена требуют небольшого ремонта. Крыша цела, это видно по потолку без потеков. Окна? В одном даже стекла целы. В другом — надо сделать раму и остеклить. Заглянула в подполье: целы балки пола, доски только разошлись. Приспособить дом для жизни — в моих силах. Сговорилась с властями — отдали мне дом для жительства. Надо отремонтировать. Наискосок жил немец Майер — плотничал. Он тоже воссоздал свой дом из кулацкого, когда немцев Поволжья сюда пригнали. За три дня он мне сделал, остеклил и поставил раму. Рычковы, старики, у которых брала молоко, дали мне старый «подтопок» с трубой (так здесь называют железную печку) и глину для ремонта. Дров — сушняка, у самой деревни, в лесу — сколько хочешь. Навозила салазками. Вставила в отверстие русской печи железную трубу, затопила подтопок. Горит хорошо. Стало в избе тепло. Растопила замерзшую глину, подправила под и чело печи, подштукатурила стены. Тут пришел Хасэгава. Осклабясь, поклонился, как всегда, пятясь задом, покачал головой. Потом взял топор, стал сколачивать пол, дров наколол.
Словом, за неделю было готово жилье, и солнце засветило в окна.
Появился свой дом и оседлость. Пришла из Крыма, от друзей, посылка с книгами и продуктами, от детей из Москвы — фотоаппарат, который я просила, — буду снимать, а за снимки получать натурой: картошку, яйца. Фанерная крышка от посылки стала книжной полкой, полученный в ларьке ящик из-под пряников — фотолабораторией.
В морозы дом выстывал, конечно: вода в ведре замерзала; но на печи спать не холодно. Утром я растапливала подтопок, и струи горячего воздуха от железной трубы бодро расходились по комнате. Можно сесть и читать и писать. Никого… Тишина… Только белые гуси под окном гогочут и купаются в первых весенних проталинах.
Я ли восстановила этот старый разрушенный дом, превратив его в жилье человеческое? И для чего он был нужен мне? Нет, соорудили друзья. Далекие, те, что были в Крыму и в Москве, и в Ленинграде, и в лагерях. Не тем, что прислали посылки и деньги, а тем, что уже на третий месяц ссылки кончилось у меня чувство заброшенности и одиночества, подавлявшее вначале: я почувствовала руки друзей.

Н. И. Гаген-Торн в ссылке на Енисее. 1954 г.
Тут надо сказать о милости, которую подарила судьба: во время своего заключения я чувствовала всегда — есть близкие люди. И в лагерях, и на воле есть. На Колыме, оставив маленьких детей, я в отличие от большинства женщин знала: не одиноки мои дети. Есть руки, которые их поддержат, люди, которые не бросят ни мать, ни детей моих. Так и было. Надо назвать имена друзей моих, хотя бы умерших, потому что о живых приучены мы не говорить. Елена Михайловна Тагер и Софья Гитмановна Спасская поддерживали мою мать, пока сами не были арестованы. Герман Михайлович Крепс заботился о детях моих, пока не умер. Заботились и другие, живые еще, родные и друзья. А во второй тур подросли дочери мои почти до самостоятельности. Основная тревога была о стареющей матери. Но я знала — поддерживают ее и Вера Федоровна Газе и Григорий Абрамович Шайн [26].
Я чувствовала теплую опору там, на воле: чем могут, помогут. Не испытавшим бреда сталинской эпохи, пожалуй, непонятна огромная сила этой веры в дружбу. Дружба для человека почти такое же естественное чувство, как солнечный свет или отдых при усталости. Основой сталинского режима было разрушение естественных чувств. Был проделан социальный опыт: как создать полную автоматическую покорность? Для этого представлялось наиболее пригодным нарушить естественные реакции человека — заботу о близких, веру в друзей, умение отличать правду от лжи. Это было основным для бредового состояния, в которое была поставлена страна: перестать понимать, где правда, где мистификация, кто враг, кто друг. Возводились обвинения в чудовищных поступках. Заставляли людей признавать их. Ложь скапливалась до осязаемой плотности, начинала, как твердое тело, давить на сознание. Под этим давлением запутывались не только обвиняемые, но и обвинители: стирались грани — что правдоподобно, а что неправдоподобно. В отчаянии, в ужасе от пребывания в бреду люди впадали в беспредельное одиночество: они не знали, кто предал их, что бросило их в гигантскую мясорубку. Над ней стоял серый туман страха. Он охватывал тех, кто еще не попал под нож мясорубки, и заставлял метаться, отрекаясь от самых незыблемых, самых близких связей: дети отрекались от родителей, жены от мужей, друзья отказывались от друзей и братья от братьев. Пожалуй, только матери не отказывались от своих детей — я не помню, чтобы слышала слова: «Мать отказалась от меня».
Особенно трагичным было положение партийцев: они привыкли думать, что партия — их добрая мать, заботящаяся о них, поддерживающая и направляющая их шаги. И вдруг, неожиданно, эта мать с легкостью отказалась от них, швырнула своими руками в мясорубку. А вместе с ней от них отказались все: каждый друг поднимал свой партийный билет и прятался за него. Человек оставался оголенным, лишенным покровов и связей. Был совершенно один в бредовом мире теней и со страхом смотрел: кто окружает его? Какую гримасу сделают тени? Чем они обернутся?
Положение беспартийных было лучше: почти всегда у них оставалась связь с семьей. Она приносила боль, страх за семью, ее беспомощность и обреченность, но она же служила отрадой, укрепляла незыблемость сознания.
Лишь немногим была милость судьбы: сохраненная вера в друзей, гордость друзьями. Это давало огромную силу. Это был тот спасательный круг, который в царское время держал горсточку революционеров в водоворотах борьбы с императорской властью. Проводившие дьявольский социальный эксперимент — приведение человека к полной покорности — по царскому времени знали спасительную силу этого круга. Поэтому в первую очередь старались его разрушить. Если не удавалось — человек оставался духовно неуязвим, выплывал из водоворота.