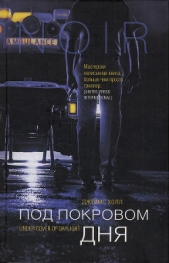Memoria
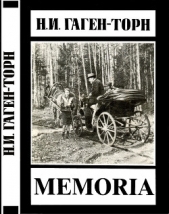
Memoria читать книгу онлайн
Нина Ивановна Гаген-Торн (1900–1986). Дочь профессора, выпускница Петербургского университета, поэт и прозаик, ученый-этнограф — и политзаключенная, лучшие годы жизни которой прожиты в сталинских тюрьмах, колымских и мордовских лагерях, на пересылках, этапах, в ссылке…
«В страшной жизни, где люди носили платье с номерами, не имели связи с нормальным бытием, встретить человека, как бы витающего над всем лагерным ужасом, — чудо. И этим чудом была встреча с Ниной Ивановной Гаген-Торн…» (К. С. Хлебникова-Смирнова, бывшая заключенная.)
«Она прожила долгую жизнь, прожила ее с честью, но, если бы была возможность писать и, главное, увидеть опубликованными плоды своих раздумий, — жила бы еще долго. Крепкий была человек…» (Галина Гаген-Торн, дочь).
«Ужасно жаль, что в наше время, запутавшееся в далеко не диалектических противоречиях, Ваших стихов нельзя опубликовать. Но не падайте духом: придет и для них время — иное, освобождающее…» (Илья Сельвинский).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
2 февраля. Была на комиссовке. Казачинск набит ссыльными, их как тараканов на печи, и мечутся в поисках жилья и работы. Хватают любую. Нет, не хочу жить в Казачинске. Врачи тоже ссыльные. Они, конечно, прекрасно понимали, что мне нужна справка, чтобы освободиться от принудительной работы в колхозе, и сделали все возможное. Написали: дистрофия, ослабление сердечной деятельности, эмфизема легких. Толстый старик хирург Юрий Соломонович, не участвовавший в комиссовке, позвал меня к себе в гости. Он сам из Киева, отбыл срок в лагерях и попал, как и все мы, «навечно» в Казачинский район. Но здесь сравнительно неплохо устроился — работает по специальности, нашел новую жену, получили они двухкомнатную квартиру, колодец близко, есть электричество, почти по-городскому живут. Очень гостеприимны. Меня усиленно потчевали. Провожая, он сказал:
— Комиссовка комиссовкой, но о здоровье-то вам надлежит серьезно подумать: состояние очень неважное.
Я, правда, иногда чувствую такую слабость, что с трудом могу поднять ведро воды.
В начале февраля была назначена регистрация ссыльных у коменданта. Нам дали расписаться в том, что мы оставлены здесь «на вечное поселение» и обязаны ежемесячно являться на регистрацию. На некоторых эта бумага произвела подавляющее впечатление, но большинство приняли равнодушно — зеки привыкли не верить в «вечность» постановлений и не думать о будущем, абы устроить жизнь в настоящем.
Комендант принимал по очереди. В канцелярии сидели ожидающие. Группа мужчин на лавках рассматривала желтолицего человека. Японец? Самый настоящий интеллигентный японец? Откуда он тут взялся? Он заговорил со мной по-английски. Английского я не знаю. Отвечала по-французски. Французского он не знает. Сошлись на немецком. Он знал его плохо, но немножко знал. И говорить не могли — кругом толпа и галдеж. Больше смотрели. Внимательные, скорбные глаза японца. Создалось понимание без слов.
10 февраля. Ни писем, ни книг, ни ответа от Ликина, выслал ли «Котомку». Галя прислала письмо: «Отдыхай, поправляйся, деньги смогу высылать без затруднений». Она добрая девочка, но от этого не легче.
Мыслей много, а делать ничего не могу. Как писать, если все написанное погибло? Да и на чем писать? Бумаги здесь не достать. Вышлют ли в посылке? Вряд ли написанное будет нужно кому-нибудь, дойдет до кого-нибудь. Но упрямый бес, владеющий мною, требует: пиши!
В лагерях я прочла прекрасную книгу Г. Уэллса «Мир Вильяма Клиссольда». Это исповедь английского интеллигента 30-х годов. Прочла, как пьют светлую воду из ручья, как в ранней юности внезапно находят друга.
Быть может, кому-нибудь, когда-нибудь, после моей смерти, эти записки тоже станут разговором с другом. Бывает: рукопись случайно сохранится и зазвучит в веках голосом человеческой души. Сохранился, например, отрывок египетской рукописи (Б. А. Тураев приводит его в «Истории Древнего Востока»): письмо скрибы, написанное в период кризиса египетской культуры. В ужасе и отчаянии скриба пишет, что рушится государство и гибнет мир. Исполненный горечи и гнева, пишет о злодеяниях, творимых «рабами и низкими людьми», несчастьях «благородных». Пишет с точки зрения своего класса, своего времени. Но — в силу искренности и страстности переживания — это звучит общечеловечно, криком через тысячелетия. Напряженность боли и страсти делает написанное бессмертным. Как переписка Абеляра и Элоизы или письма испанской монахини о любви. Напряжение боли создает душевную расплавленность, кристаллизующуюся в живые слова. Постараюсь и я дать неведомому человеческому братству пережитое со всей напряженностью. Не знаю, сумею ли: робинзоны косноязычны. Мне не с кем заострять и оттачивать мысль. В торичеллиевой пустоте, от нервности, отсутствия тренировки она стала суетливой и беспорядочной. Как в одиночестве из хаоса сформулировать видение мира?
12 февраля. Собираясь писать в будущее, неведомым друзьям, может быть, внукам, вспоминаю Герцена. Он писал в будущее «Былое и думы». Но писал в Лондоне, располагая всеми библиотеками, временем, средствами, подводя итог плодотворным и получившим признание трудам. Ах, Александр Иванович, начинаю беседовать с вами и вашими воспоминаниями, по памяти, идя в прошлое, а с неведомыми друзьями — в будущее, не располагая ничем, даже бумагой.
Я сижу в маленькой сибирской деревне, на берегу Енисея. Может быть, много лет буду здесь сидеть. Снег. Горы, покрытые черным еловым и синим сосновым лесом, высятся перед моим окном. 80-летний старик, неграмотный, простой, как приречный камень, лежит на крашеной красной кровати, курит трубку, смотрит на меня одним голубеньким глазком, другой он давно выбил веткой на охоте. Ему не нравится, его тревожит — зачем я пишу?
Снег на коричневых срубах покосившихся домов. Одна, сама из себя, должна додумать мысли: о мире, о Боге, о человечестве и его путях. Должна потому, что иначе, без этого не могу, не умею жить.
14 февраля. У меня нет ни книг, ни друзей, ни вещей. Нет среды, в которой привычно складывалась умственная работа.
Одна. Солнце над головой; зеленый шар под ногами. Оторванность от сегодняшнего дня и его дел дает чувство отрешенности и великой свободы. Но она — трудна. Отняли обыкновенную жизнь. У меня нет близких, с которыми я бы могла беседовать за чашкой чая (нет ни чашки, ни чая тоже). Реальностью моей жизни стали те, кто умер, оставив след в книгах, и те, кто родится, кому я должна оставить свой след. Прикрепленность к месту дает свободу во времени. Приходится или вовсе перестать думать или думать об общем и вечном. Ощущать жизнь как беседу с миром, Богом и человечеством.
А с кровати на меня смотрит голубенький глазок Сергеича, не понимая, почему я пишу. Не любит, когда пишу.
15 февраля. Сергеич ушел. Я одна в избе. Могу спокойно расположиться за столом, писать. Только уселась — постучали в дверь.
— Войдите! — Вошел — японец! — А, Хасэгава-сан! Здравствуйте!
Сделав несколько шагов, он стал отступать назад, улыбаясь, приседая и кланяясь, — вежливая форма приветствия у них. Я поднялась, тоже кланяясь, и протянула руку:
— Садитесь, пожалуйста!
Пододвинула табуретку.
— Пришел просить учить по-русски, — сказал он.
— Охотно, конечно.
— Деньги нет, могу работать: мусская работа — дрова!
— Ну какая может быть плата, Хасэгава-сан! Очень рада, если смогу помочь. Книг вот нет… Придется без книг. Но прежде давайте пить чай, я только что получила посылку!
Достала из русской печки кипяток, бросила ему в чашку хорошую заварку чая. Как он обрадовался! Оказывается, не пил настоящий чай все годы, что прожил в лагере. А японцу без чая, как курильщику без табака.
Объясняемся смесью слов: он русско-английских, я — русско-немецких (он немного понимает немецкий). Выручают иногда и формулы, например, вместо «вода» — Н2О, и международная «латинская кухня». Ничего, соображаем.
28 февраля. Получила я от Ликина телеграмму: «Рукопись выслана на адрес коменданта. Справьтесь и получите». Бывают же такие порядочные люди! Пошла в Пятково, к коменданту. Прошу выдать рукопись.
— Нет у меня никакой рукописи!
Показываю телеграмму.
— Что же, мне телеграфировать оперуполномоченному в Темники, что рукопись потерялась?
Посмотрел волком. Помолчал. Буркнул:
— Зайдите через неделю.
Значит, рукопись давно у него, не хотел отдавать… А теперь — боится и не знает, как поступить. Но добьюсь, выдаст…
Дальше — перерыв в записях. Не помню, почему. Может быть, потому, что подошли дни болезни и смерти Сталина, а про это нельзя было писать, слишком довлело «табу» даже мыслей о Сталине. Слышали ежедневно по радио краткие сообщения «болен… опасно болен». Что? Что дальше? «Положение серьезное… Угрожающее…» Умер? Ну? Что будет дальше? Надо делать невозмутимое грустно-безразличное лицо…