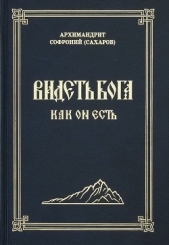Это мы, Господи, пред Тобою

Это мы, Господи, пред Тобою читать книгу онлайн
Воспоминания о репатриации казаков из Австрии в июне 1945 года, о лагере в Сибири. Автор — активная участница и одна из организаторов невооружённого сопротивления казаков против их насильственной выдачи англичанами в руки советских властей.
Евгения Борисовна Польская (в девичестве Меркулова) родилась в г. Ставрополе 21 апреля 1910 г. в семье терских казаков. Ее муж Леонид Николаевич Польский (1907 г.р.) был сыном Ставропольского священника Николая Дмитриевича Польского. В 1942 г. после немецкой оккупации супруги Польские в числе многих тысяч казачьих семей уходили на запад. В 1945 г. были насильно «репатриированы» обратно в СССР, как власовцы. И хотя в боевых действиях против «союзников» они не участвовали, Евгения Борисовна получила 7 лет лагерей, ее муж — 10. К концу жизни ею были написаны воспоминания «Это мы, Господи, пред Тобою…», в которых она описывает послевоенную трагедию казачества, а вместе с ним и всего русского народа, всей России… Скончалась Евгения Польская 18 января 1997 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Идет, бывало, атаманша Ильиниха по станице, высокая и до глубокой старости стройная, как раина. В знак траура по мужу одета постоянно в черное до пят платье, покроя особого, вроде монашеского, не казачьего и не барского. В руке обязательно палка — высокий посох, иногда это просто выломанный от мощного подсолнуха стебель. Идет неторопливо, будто шествуя торжественно, с посохом своим похожая на патриарха с жезлом.
Мимо идущие казаки, и молодые и старые, почтительно снимают шапки и кланяются бывшей атаманше в пояс. А она иного подзовет низким басовитым голосом, остановится величаво и начинает «чепушить» за какую-нибудь ею замеченную провинку. Или в церкви не истово стоял, или жене изменяет. Все, что в станице делается, Ильиниха знает. Особенно негодовала она на тех, за кем приметила порок ругаться «черным словом» (чертом). Подзовет иногда поближе, поближе и — «за чуприну»! Не взирая на возраст и общественное положение в станице. Говорят, дирывала за волосы и молодых офицеров даже. Иного еще и посохом своим подсолнечным по спине так протянет, что хрупкая палка переломится, из чего видно, что посох-жезл брался в руки не столько для опоры тела, сколько для величия, как знак власти.
И все безропотно принимали от старой атаманши наказание, да принято было еще благодарить «за науку» целованием наказующей руки.
На сходки казачьей «старшины» женщины не допускались. Но прабабка Марина смело и без зова шла к казачьему кругу, все перед нею почтительно расступались, и она диктовала старым казакам, как надо поступать в том или ином случае.
В молодости стреляла метко, участвовала и брала призы в джигитовках казачьих и, по слухам, чуть не застрелила на чьей-то свадьбе мужа, когда он шутейно приволокнулся за какой-то смазливой казачкой.
Дочь ее Таня — бабушка моя — окончила Александровскую ставропольскую гимназию, называемую «пансионом», т. к. многие гимназистки, дочери знатных или богатых обитателей сел и станиц губернии, жили при самой гимназии в течение учебного года. В Ставрополе же бабуля и замуж вышла, к негодованию прабабки, за «простого солдата», т. е. чином невеликого чиновника, писаря. Маша — дочь тоже замужем была за немцем, богатым колонистом, жила с детьми где-то в Средней Азии, кажется. На фотографии Машина дочь Ирина — с моим профилем, а сын Ипполит — будто мой отец.
Вдовствующая прабабка Марина в старости оставалась совсем одна в своем хорошем станичном доме, окруженная только челядью. Но по близости Ставрополя внуки, Танины дети — отец мой и его сестра, гимназические каникулы проводили у бабки, в станице, а зимою она сама езживала погостить в город к рано овдовевшей Тане.
Дом прадедовский в Суворовке, теперь так неузнаваемо перестроен, что навестившая дедовщину в сороковых годах тетя Веруся узнала его только по старой кривой вербе. [38] Использовался он в советское время как детсад, а прежде был выстроен по барски: с деревянными колоннами, с большой застекленной террасой, как полагалось на юге… При нем был сад, тополя и памятная верба… Внутри дома — обстановка хотя бы и столичной семье впору: мебель ампирная была, в «зале» на мраморных подставках в виде античных колонн — небольшие мраморные статуэтки, видимо, дедовские «трофеи», привезенные из западных походов. В горках — фарфор, хрусталь, были чарочки с вензелем N, чашки с узором из пчел, отбитые дедами в наполеоновских обозах. Единственный такой стаканчик, памятный, недавно разбит уже в моей семье. На стенах — ценное оружие на чудных кавказских и персидских коврах. На одной полувыцветшей фотографии прадедовского домашнего интерьера разглядела я маленькую скульптуру «Трех граций» в струящихся к ногам хитонах.
Была там статуэтка стоящего в рост офицера, похожего на Нахимова одеждой и горбатым носом. Отец мой и тетки называли между собой фарфоровую фигурку «Печориным», а бабушка, перепутав имена и портретность, считала: это изображение Лермонтова. И задумчиво глядя на статуэтку, говаривала: «Чудные стихи писал!» Напевала внукам строки «Колыбельной казачьей» и, совсем перепутав биографию, — а, быть может, в те времена в той среде ее просто и не знали, — добавляла: «Простой наш казак, а какие стихи!» Отец мне говорил, что долго, из-за этого бабушкиного утверждения, считал Лермонтова казаком и был огорчен, узнав, что это не так.
Изо всех внуков прабабушка любила особо Борьку, будущего отца моего. Как же: единственный в семействе мужчина-казак и «наследник»! Остальные внуки были «девки», как она говорила. Внука Ипполита от дочери Маши, она, возможно, и не видела, а Борька с младенческих годов у нее проводил лето, подростком шныряя пешком по призеленчукскому притеречному Кавказу, где в станицах жили многие родичи Ильиных. В годы гимназические и студенческие портил девчат в Суворовке, за что был бабкою, бит нещадно, так бит, что однажды она вырвала у него юный ус. Любила его, но даже на него тратиться скупилась. Очень была, по рассказам, скупа. Еще крохотным мальчишкой излупила памятно за то, что обмарал новые сафьяновые сапожки красненькие. Как ни наказывали — «не порть одежду!» — Борька все-таки лазал по деревьям и однажды порвал штаны, повиснув на суку. И тогда бабка раздела его до гола, уже десяти-двенадцатилетнего, и привязала веревками к груше, на видном месте, и все мимо идущие — и девчонки, главное, — смотрели на голого ревущего полковницыного внука и смеялись. Только к вечеру какой-то казак осмелился, когда бабка не видела, отвязать Борьку, он, голый, убежал и несколько дней укрывался от бабкиного гнева у родственников. По возвращении был и еще выпорот за переполох при его поисках.
А казак, его отвязавший, при очередном обходе атаманшей станицы был наказан ею телесно за вмешательство в бабкины семейные дела.
Такая вот была властная, нравная, жестокая старуха!
Все эти эпизоды мне рассказаны не только бабулей Таней, отцом или тетей Верусей, но нашли и еще одно подтверждение относительно недавно, когда мне самой было за сорок лет, и ни Борьки, ни бабуленьки моей уже не было на свете.
Еду как-то электричкой в Минводы. Со мною в вагоне старая, престарая бабушка с корзинкой, а в корзинке гомозится беспокойный петух. Старенькая, сморщенная вся, но бодрая, веселая и разговорчивая ужасно. Оказывается, она из станицы Суворовской. Едет, кажется, к своим детям. Породистый петух — им подарок. Я и скажи, что Суворовка — моя дедовщина, хотя сама я там не бывала.
— А чьих вы: — спрашивала бабушка.
— Ильиных, — говорю.
— Это каких же Ильиных?
Объясняю, зная, что в станице Ильиных было много, вплоть до участника гражданской войны «авантюриста» Ильина.
Бабуся сама — тоже Ильина, и прекрасно по своему детству помнит и атаманиху «Микитичну», и гимназисток — внучек ее, и «черкашенина» Борьку, который ее девчонкой за косы дергал, бывалоча, и колотил — драчун был невыносимый! Станичники и родственники называли хулиганистого мальчишку «черкашенином», [39] потому, что был угольно чернявый, глазастый и ловкий, как вьюн.
Говорю ей, что по всем приметам Борька-«черкашенин» — мой покойный отец. Даже прослезилась старушка, встрепенулась вся. Видимо, девчонкой была неравнодушна к Борьке. А, может, из-за нее он и ус свой первенький потерял! Очень взволновалась бабушка, стала приглашать меня в станицу, где живет с внуками. «Да, Господи! Борькина дочка! Да приезжайте к нам, как бы домой!» — твердит. И тут же мне рассказывает, как бабка Марина Борьку голого — «а он уж почти парень был» — привязывала к груше, как лупила моего будущего отца, так лупила, что родственники-соседи прибегали «отнимать».
Петух в корзинке у старушки клекочет, бьется, стремится разорвать свои путы, а она запихивает его поглубже и все рассказывает, рассказывает мне о моей родне, припоминая подробности. Как все решительно казаки уважали и боялись строгую Атаманиху, работали на нее бесплатно «от уважения». Какая скупая была она: луковицу, которую у нее занимала соседка, на весах взвешивала, чтобы получить обратно такую же по весу. Как она неусыпно сражалась за целость фруктов в своем саду, который «обносили» станичные дети. А фрукты все равно сгнивали — продавать их не было в обычае.